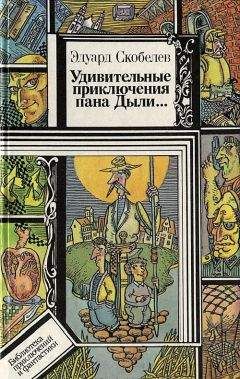Дундук Дундукович только рот разинул от удивления. Однако дубиной встретил набежавших солдат, некогда присягавших ему на верность.
Видя неравную схватку, пан Дыля не выдержал и бросился в самую ее гущу. За ним последовали Чосек и Гонзасек.
Когда бывшего короля свалили на землю и связали, пан Дыля скомандовал:
— Занять оборону в шалаше! Все трое юркнули в шалаш.
— Хватайте бродяг! — вопил Лямзель. — Всех уволю, кто не прислуживает трону так усердно, как велит закон!..
Солдаты окружили шалаш, но вдруг из шалаша пыхнуло пламя, — в небо поднялся столб дыма.
— Никого не спасать! — приказал Слямзель. — Пусть сгорят смутьяны! Это дешевле, чем содержать их в тюрьме!..
Впрочем, троица и не думала пропадать в огне. Из шалаша вел подземный ход. Чосек, Гонзасек и пан Дыля воспользовались им, а шалаш подожгли с целью ввести в заблуждение своих противников.
Когда все разошлись, «смутьяны» выбрались из подземной норы.
— Жаль, что мы не сумели защитить более слабого, — сказал Гонзасек. — Если несчастного короля бросят в тюрьму, я готов выступить на его защиту. Но для этого нужно оружие. А мы нищие.
— Нет, мы уже не нищие, — Чосек подбросил на ладони увесистый кошелек.
— Что за чудо?
— Кошелек я срезал у Лямзеля, пока он агитировал солдат. Правильно ли я поступил?
Пан Дыля нахмурился и покусал усы.
— Вообще-то я против, — сказал он. — Но, учитывая, что негодяи готовы были похоронить нас в огне, принимаю кошелек в качестве военного трофея…
Зеленый сундук пана Гымзы
Чтоб не тратиться на чужих людей и не выносить сора из избы, Гымза еще в молодые годы уговорил родную сестру прислуживать в его доме. Она и стирала, и кухарила, и покупала необходимые продукты, и успевала обихаживать огород. Поговаривали, что именно Гымза через подставных лиц помешал браку сестры.
У этой молчаливой женщины была дочь — болезненная, хилая, почти инвалид.
После смерти сестры Гымза вознамерился избавиться от сироты и объявил, что отпишет половину своего состояния тому, кто возьмет ее в жены. Соблазнились многие, но опередил всех парикмахер Цоцкин.
— Пиши договор, пан Гымза, я женюсь!
— Зачем нам договор? — воскликнул пан Гымза, хватая по своему обыкновению собеседника за ремень и с силой притягивая к своему багровому, в прыщах и бородавках лицу. — Или мы не здешние? Вот видишь тот большой зеленый сундук? В него я буду складывать все то, что пойдет тебе. Несите, люди, две чарки и будьте свидетелями: пан Гымза отпишет свое состояние пану парикмахеру в этом зеленом сундуке! Много ли уместится в нем драгоценностей, кто ответит?..
Выпили они, закусили и ударили по рукам.
Став родственником пана Гымзы, хитрый, но слабовольный парикмахер сделался его фактическим слугою. Мало того что бесплатно стриг, брил и завивал дорогого тестя и всех домашних, еще и гороскопы для каждого вычислял. Конечно, и просьбы исполнял, а их у богача — море. Главная — чтобы никто не засиживался, не застаивался, не дремал, не отдыхал, не думал о чем-то своем, а помогал делать деньги.
Пан Дыля, когда служил у Гымзы, не раз говаривал нахальному парикмахеру:
— Ты и доносчик, и надсмотрщик, и мелкий холуй. Людям нет жизни не только от пана Гымзы, но и от тебя. Помяни слово, накажет за это судьба!
— Ты, Цоцкин, все ожидаешь, что пан Гымза износит свою шкуру раньше, чем ты свою. Но у него она двойная и дубленая, — добавлял Чосек, — а твоя, гляди, уже побита молью и вот-вот расползется. Минуют тебя миллионы.
— И того, кто торопится и слишком усердствует, накажет судьба, и того, кто, подобно пауку, готов сколько угодно караулить жертву, тоже накажет, — присовокуплял Гонзасек. — Раньше люди жили спокойно, имея веру и надежду, а теперь только и опасаются все большей беды и оттого дрожат, и оттого один другому делают всякие пакости…
Но разве могли образумить Цоцкина разумные речи, если он спал и видел себя хозяином чужих сокровищ?
Когда скончался пан Гымза и нотариус огласил его завещание, действительно, зеленый сундук отошел к парикмахеру.
Обрадованный Цоцкин бросился открывать сундук, открыл, свесился по пояс, шаря руками, и вдруг застонал и потерял сознание: в сундуке оказались лишь вороха гороскопов, придуманных Цоцкиным, да еще старый пожарный шлем, на котором была такая надпись: «Туши пожар глупости своей в первую очередь, а пожар имущества своего — во вторую!»
На что намекал пан Гымза этими словами, да и намекал ли, осталось непроясненным, потому что сам он всю жизнь пекся прежде всего об имуществе.
В поисках работы забрели друзья на Полесье и попали в пустынную, брошенную зону.
Близ покинутой жителями деревушки, на высоком холмище, устроили привал, где пан Дыля откопал камень весьма странной формы.
— Мне кажется, эта штука естественного происхождения. Окаменевшая смола, что ли?
Гонзасек разбил камень. Внутри оказался хрупкий футляр из красной глины, а в футляре кусок бересты, на котором были аккуратно нацарапаны какие-то письмена.
— Эй, Чосек, — позвал пан Дыля, — это по твоей части. Разберись-ка, что здесь написано!
Не прошло и часа, как Чосек перевел: «Здесь окончил свой земной путь от истощения и болезни славный Либерий Марциан, глава специального отряда владыки римских законов, правителя правосудия и справедливости Августа Флавия Валентиниана. Воины военачальника три дня и три ночи плыли по морю, затопившему леса и поля, и достигли крошечного острова, на котором не нашли никакой пищи. Все бы погибли от голода, если бы не помощь ревов, варварского племени, живущего на легких лодках, больших умельцев ловить рыбу и ухаживать за пчелами». Пан Дыля протяжно свистнул.
— Чосек, ты сделал крупное научное открытие! До сих пор, кажется, никто не находил в этих краях римских письмен столь древнего происхождения!
— Ничего удивительного, — сказал Чосек. — Известие от моряков Колумба, запечатанное в кокосовый орех, люди нашли почти через четыре столетия. А мы читаем эти строки всего лишь… через шестнадцать веков. Если мне не изменяет память, император Валентиниан жил в четвертом или пятом веке. Четыре или шестнадцать столетий — какая разница для истории?
— Если мы сдадим находку в музей, — сказал Гонзасек, — ученые обессмертят наши имена.
— Как бы не так! — сказал Чосек. — Они обессмертят свои собственные имена. Нас же не удосужатся угостить даже тарелкой борща. Историей народа теперь никто всерьез не интересуется. Теперь в почете «двенадцать апостолов» — двенадцать способов обирания чужих карманов.
— Эти времена минуют, — сказал пан Дыля. — Система обмана и эксплуатации не может быть вечной. Так что, если ты замыслил уступить находку каким-нибудь иностранцам из числа тех, что повсюду за бесценок скупают старину, я категорически против.
— И я, — присоединился Гонзасек.
— Если бы я имел диплом об окончании вуза, может быть, мне удалось бы напечатать статью, — вздохнув, сказал Чосек. — Но я пишу во всех формулярах: среднее школьное образование… И поскольку мой труд не напечатают, а продавать находку я тоже не хочу, давайте подарим ее ближайшему музею. Не сомневаюсь, что бересту в качестве писчего материала предложили римлянам эти самые ревы… Может, кревы, может, древы. Иначе говоря, древляне.
— Как все интересно, — задумчиво произнес Гонзасек. — Вы только представьте себе этих людей, что похоронили в неведомой стране своего отважного предводителя!.. Сколько еще неразгаданного кругом, а люди все упиваются хитростями, обманами и прочими глупостями, не имеющими на весах истории никакого значения! И все из-за того, что одни не хотят работать, а другие бессильны защитить свои права!
— А что, если отряд остался среди местного племени, и наш прародитель — один из воинов Либерия Марциана? — предположил Чосек.
Пан Дыля поджал губы и пренебрежительно усмехнулся.
— Лично я веду родословную от бога Солнца, — сказал он. — Мы с Гонзасеком Даждь-божьи внуци… Но ты можешь иметь и римскую кровь, поскольку чешешь по-латыни почти так же, как я по-белорусски!
Шмельц ненавидел пана Дылю и его товарищей и при каждом удобном случае пытался напакостить им или даже погубить их. Однажды он подложил в их шалаш мину, и вся троица, безусловно, погибла бы, не случись непредвиденное: пошел сильный дождь, и в шалаш полез бродяга из тех несчастных, которыми ныне забиты все дороги. Никто потом не смог даже опознать человека: его разорвало взрывом на мелкие куски.
Вот этот самый Шмельц, называвший себя — смотря по обстоятельствам — то Карлом Карловичем Шмелоу, отпрыском австрийского герцога, то Ефаном Ефановичем Шмелевым, потомком русского купца первой гильдии, втерся в доверие к Гымзе и вскоре оттяпал у него половину земельного участка.