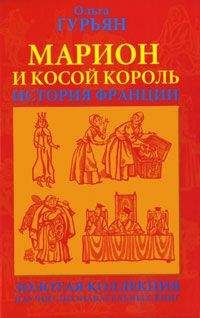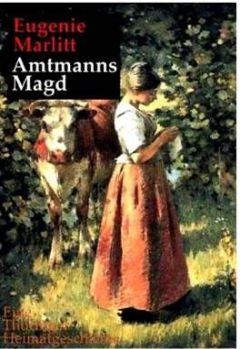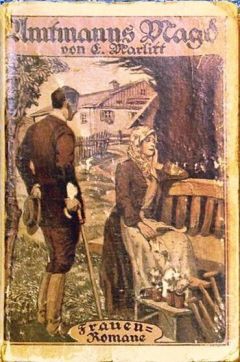А не коротки ли будут чулки? Он такой высокий!
Марион развернула чулок, взглядом измерила длину, прикинула в уме. Чулки были в самый раз.
Лавочник назвал цену, и она была чуть больше того, сколько было в кошельке Марион. Но ведь можно было поторговаться, и он, наверно, уступил бы.
Марион стояла, смотрела на чулки, а лавочник подозрительно следил за ее руками. Вдруг она покраснела, свернула чулки, сунула их продавцу, пробормотала:
— Я еще приду, — повернулась и поскорей отошла.
Было уже не так весело, и, чтобы подбодрить себя, она тихонько запела:
Встретимся, встретимся
Сегодня где-нибудь.
И вот она очутилась на левом берегу реки, где живут и учатся студенты. Но так как она никогда еще не бывала в этой части города и не знала, на какой улице она встретит Онкэна, то она шла куда глаза глядят, все вперед и вперед. Наконец она оказалась на улице бедной и скудной и увидела, что множество Студентов сидят прямо на мостовой, на связках сена, перед открытыми дверями аудиторий, а магистры в черной одежде с капюшоном на беличьем меху, стоя за пюпитром на невысокой эстраде, объясняют им тексты или диктуют свой курс.
Студенты, держа на коленях дощечки, усердно писали, и никто из них не обернулся взглянуть на Марион, и никто не вскочил приветствовать ее, и она поняла, что господина Онкэна здесь нет, и пошла дальше.
На перекрестке разглагольствовал магистр богословия, и прохожие останавливались послушать, мимоходом схватить крохи мудрости, и Марион тоже остановилась ненадолго. Ведь все равно было идти или стоять, раз ей было суждено встретиться сегодня с господином Онкэном.
Магистр говорил:
— Ваш город — мельница, на которой вся божья пшеница перемалывается для питания всего мира. И размалывается она, говорю я вам, лекциями и дискуссиями ученых. Ваш город — печь и кухня, где приготовляется пища для всего мира.
Печь и кухня! Но печь на кухне не была затоплена, и никакой пищи она не купила. Она покраснела от стыда, потому что по ее вине дома все сидели голодные, а она бегала по городу в поисках неосуществимой мечты.
И, опустив голову, волоча усталые ноги, она пустилась в обратный путь.
Глава четырнадцатая РАЗГОВОР В ТЕМНОТЕ
— Простофиля ты! Деревенская дурочка! Я тебя ясно намекнула, еще ущипнула для памяти: «Берегись воров, смотри, не отрезали бы у тебя кошелек». Я-то думала, ты поймешь, вернешься домой вся в слезах, глаза подолом натерла докрасна, всхлипывая, пожалуешься: «Меня, мол, обокрали!» А сама припрятала бы денежки, отдала бы мне свой долг. До каких пор я буду терпеть и ждать? Ты что думаешь, деньги — это камушки, валяются в уличной грязи? Они мне тоже не просто достались…
В каморке темно, лиц не видать, но Марион слышит, как Марго со злостью стукнула кулаком по тюфяку и хрустнула солома.
— Ах, до чего ты меня огорчила! Я, как увидела тебя в первый раз, сразу поняла: вот невинное личико, с таким личиком можно любое дело сделать, никто на тебя не подумает. Я так надеялась: вот будет мне помощница, вот будет подружка! А ты что? Прямо отколотила бы тебя, так я на тебя зла!
— Но, Марго, за что же ты сердишься? Я не понимаю, что я не так сделала?
— Что ты сделала? Вернула кошелек хозяйке, дура ты, и больше ничего. Не понимаешь? А деньги брать в долг без отдачи ты понимаешь? А ходить в таверну «Мужик на корове» и есть там на даровщину лепешки с творогом, это понимаешь? Нет, милочка, за всякое удовольствие приходится расплачиваться. Так и знай, больше я ждать не намерена. Настало время расплаты. Дура ты, представляю себе, какие у тебя сейчас телячьи глаза и рот разинула. Сейчас я тебе все объясню. Садись рядышком, это не такое дело, чтобы кричать о нем во весь голос…
Марион присаживается на край тюфяка. Она сама не понимает, отчего ей так страшно.
— Так вот, слушай! Разве не хочется тебе красивые платья и вкусную еду и чтобы не ты была служанкой, а тебе прислуживали? Или тебе больше нравится прыгать под указку хозяйки, а не угодишь ей — выкинут тебя на улицу, и ходи проси милостыню? Нет, что касается меня, я на такую нищую жизнь не согласна! Понемногу коплю я то, что пригодится мне в собственном моем хозяйстве, а накоплю достаточно, уйду отсюда, сниму комнату и заживу барыней. Как я увидела тебя, я сразу подумала: «Вот хорошая, умная девочка. Научу ее, как добыть себе легкую жизнь». Все еще не понимаешь? Хочешь, я покажу тебе, что у меня есть в сундучке?
Марго вскакивает, дергает дверь каморки—заперта ли? Стучит кремень, роняя искры. Зажглась свеча. Марго на корточках перед сундучком.
— Смотри!
Одно за другим она вынимает свои сокровища, отставив пухлый мизинец, вертит им перед пламенем свечи, восхищенно любуется ими.
— Смотри, агатовый кубок. Весь прозрачный, просвечивает насквозь. Когда в нем налито красное вино, он светится, как костер в тумане. Правда, красота? Так и хочется пригубить! Я унесла его из таверны «Медведь и лев» на Пропащей улице. А этот кубок? Он попроще, но тоже хорош. Оловянный, а блестит совсем как серебро. Я вошла в пустой дом на набережной, около отеля «Бурбон». Дверь забыли запереть, я толкнула ее и вошла. Там он стоял на полке, и я поскорей взяла его, пока хозяева не вернулись. Если бы я так не торопилась, было там еще несколько хороших вещей, но лучше не жадничать. А вот посмотри на эту кружку! На ней узор из цветов репейника и переплетающихся ветвей и листьев. Ты только посмотри, какая работа! У нашей хозяйки такого нет. Я выбирала миски у торговца оловянной посудой, а между тем незаметно спрятала эту кружку под верхним платьем. Это полотняное покрывало, совсем новое, ни одной заплатки, я нашла в шкафу в банях на улице Сен-Мартэн. Глупый банщик стоял у входа и кричал во все горло: «Бани горячие, и я не вру!» А я незаметно прошла мимо него и незаметно вышла. Вот этот медный подсвечник я выменяла на кусок сала. Я делала вид, что выбираю мясо, взмахнула рукой, и сало скользнуло в мою корзинку. Притво-рясь, что покупаю полотно, я унесла одну штуку для себя. Это платье ты уже видела, а вот другое платье получше. И кошель из белого бархата, и смотри, какой миленький костяной гребешок. С одной стороны частые зубья, с другой — редкие, а посреди вырезаны Адам и Ева под яблоней. Ну, еще две простыни, одни башмаки, вторые башмаки, вышитые шелком перчатки. Я их стащила с лотка, когда, помнишь, мы ходили гулять на кладбище…
— Зачем ты мне все это показываешь? — спрашивает Марион. Она пытается отодвинуться от сундука, но Марго вцепилась ей в плечо и крепко держит.
— Зачем? Чтобы и у тебя тоже было все это. Я хочу тебе добра.
— Не надо мне твоего добра! Пусти меня!
— Нет, уж теперь, когда ты все знаешь, не пущу. Теперь ты будешь делать, что я тебе прикажу. А попробуй не послушаться, и я скажу, что это ты залезла в хозяйкину запертую шкатулку и украла там эти два кольца. Вот они.
Из дальнего угла сундучка она достает завязанный в тряпочку узелок, развязывает его острыми зубами, нанизывает кольца на палец и вертит им перед носом Марион.
— Не умею я красть, — плача говорит Марион. — Не могу я воровать.
— Конечно, не умеешь. Это тебе не полы подметать. Это дело тонкое и требует навыка. Ты и не будешь воровать. Воровать буду я. Ты только будешь стоять рядом, и, когда я суну тебе какую-нибудь вещь, ты спрячешь ее под своей пелеринкой и отойдешь в сторону. Это надо на тот случай, если заподозрят меня, а увидят, что у меня нет ничего чужого, то должны будут меня отпустить. Ничего дурного не придется тебе делать, а только стоять поблизости на всякий случай. И не беспокойся, я с тобой честно поделюсь. И не бойся, никто на тебя не подумает — такое у тебя лицо, как у овечки на лужайке.
Но Марион горько плачет и, утирая руками слезы, повторяет:
— Чему ты меня учишь! Это дурное дело!
— Что же тут дурного? Должна ты наконец расплатиться со мной. Не платить долги — то же воровство. Но не хочешь, как хочешь. Я сейчас пойду к хозяйке, покажу эти два кольца и скажу, что это ты украла. Тебя отведут к судье и выставят к позорному столбу на Рыночной площади.
Какие у Марго холодные, светлые, страшные глаза! Черный зрачок расширяется, расширяется, уставился на Марион, тянет, притягивает. Сейчас она провалится в черную пропасть, а там позорный столб, там закопают ее заживо, как ту бедную женщину, которая отрезала кошелек с золотыми пуговицами у горожанки, покупавшей засахаренные апельсины.
— Не надо! — закричала она, упала на тюфяк и зарыдала в голос.
— Замолчи! — зашипела Марго. — Разбудишь весь дом… — и зажала ей рот пухлой, как подушка, ладонью.
Отталкивая руку Марго, икая и всхлипывая, Марион согласилась сделать все, что Марго прикажет. А Марго, сразу повеселев, принялась гладить ее по голове и целовать, и хвалить, и улыбаться, и сказала: