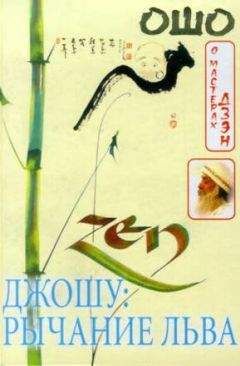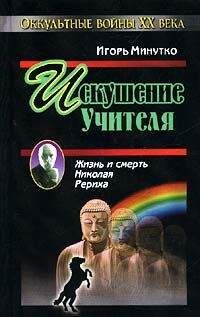«Все равно ты — Федюха-краюха, а не красный командир».
Ничего не успел ей ответить Федя, потому что его буланый конь захохотал вдруг голосом наборщика дяди Пети и сказал его же голосом:
«Сейчас бы молочка парного. В горле от пыли — Сахара».
«Вот дурак, — возмутился Федя. — Нашел время о молоке говорить».
Но тут оркестр (оказывается, и оркестр был на улице и блестел всеми своими трубами) заиграл грозную песню, и улица запела так, что стекла в окнах задребезжали от удивления:
Весь мир насилья мы разрушим
До основанья, а зате-ем…
И Федя пел тоже:
Мы наш, мы новый мир построим-
Кто был ничем, тот станет всем!
Толпа размахивала флагами и кричала «ура». На заборе все сидела Любка-балаболка и держала в руках плакат: «Умрем или раздавим мировую контрреволюцию!» И откуда она его взяла?
А Федя гарцевал на буланом жеребце, и за ним шел его отряд, чеканя шаг, и папка рядом нес красное знамя. Отряд шел тяжело, согласно; вся земля содрогалась, и у Феди даже плечо запрыгало, а конь повернулся к нему и сказал отцовским голосом:
«Вставай! Вставай! Вставай!»
— Вставай! Вставай, Федюха! Пора.
Федя выпустил поводья буланого коня… и открыл глаза. Над ним наклонился отец.
— Ну и разоспался же ты!
Федя очумело посмотрел вокруг и чуть не заплакал: на стуле возле кровати лежали его залатанные штаны, черная ситцевая рубаха, а рядом стояли сизые от пыли башмаки и к тому же носок правого почему-то расщепился, и из него, как зубы, торчали деревянные гвозди.
«И зачем только разбудили», — подумал Федя.
Пили чай из желтого самовара. Его раньше Федя считал живым. Но это было очень давно. И теперь Федя знает, что самовар — это так, железяка, и все. От самовара пахло дымом, а солененьким и острым — от квашеной капусты; она серебряной горкой поднималась в миске.
— Сожрут нас спекулянты, — вздохнула мать.- Вон капуста-то семь рублей фунт на рынке. Вчера брала.
Отец хмурится:
— Потерпи! Раздавим контру, жизнь настоящая будет.
Федя жует черный хлеб с маленькими угольками в корке, чай с сахарином хлебает и на отца смотрит. Большой у него папа: в комнату войдет — в двери голову пригибать нужно. И сильный: Федю с мамой зараз поднимает — маму правой рукой, Федю — левой. А руки у него добрые, ласковые и почернелые от типографской краски.
— Сегодня, Федюха, можно тебе попозже явиться. Делов особых с утра не ожидается. На митинг к оружейникам пойдем.
— Пап, а про что митинг?
— Революционный комитет решил создать рабочий отряд. Деникин на Москву прет.
Мама перестала посуду мыть, пригорюнилась — ровно тучка на лицо набежала. И почему у нее так морщинок много?
— Мить!
— Что? — Отец уже сапоги надевает. — А не может так, чтоб Деникин нас одолел? Армия-то у него здоровущая.
Перестал отец сапоги надевать, опять хмурится.
— Несознательная ты еще, Дуся. Не может нас Деникин сломать.
— Почему?
— Потому что нам лучше смерть, чем старая жизнь. И весь мировой пролетариат за Советскую Россию. Поняла?
Мать только вздохнула. В часах-ходиках открылись дверцы, и кукушка кукукнула восемь раз.
— Так ты, Федя, не торопись особо.
Отец ушел. Федя не спеша оделся, полистал книжку, где на картинках нарисованы чудесные дальние страны под синими небесами; когда отвернулась мать, съел ложку капусты с красными крапинками моркови и отправился в город. Чего дома сидеть, лучше погулять.
В переулке было жарко, безлюдно. В пыли купались куры. На заборе, как всегда, сидела Любка-балаболка и махала босыми ногами в цыпках. Любка вся рыжая, в веснушках и насмешница. И у нее очень большие уши. Федя на всякий случай отвернулся от Любки. Ну ее. Еще придумает что-нибудь. Но Любка сказала даже, пожалуй, заискивающе:
— Здравствуй, Федя! На работу?
— Это куда же!
— Федь, знаешь что?
— Чего?
Любка спрыгнула с забора и стала выше Феди. И зачем такая вымахала? Девчонке совсем ни к чему.
— Федь, принеси мне три маленькие буквочки.
— Нет.
— Ну две.
— Отстань!
— Ну одну, а? А я тебе штык от винтовки подарю. Тот, помнишь?
Федя задумался.
— Вечером поглядим.
Любка засмеялась, зубами своими белыми засверкала.
— Ага, вечером. Слышь, а медведь твой как?
— Как. Обыкновенно. Чего ему сделается! Любка подумала о чем-то и опять пристала:
— А что сегодня в газетах написано?
— Пойди в город и почитай.
— Неохота. Далеко идти.
— Ну и дура!
— Сам дурак!
Федя повернулся и пошел в город.
— Федя-а! — догнал Любкин голос. Повернулся. Стоит Любка, ветер к ее рыжим волосам ластится.
— Ну? Чего тебе?
— Так до вечера?
— До вечера.
Идет Федя по переулку и про Любку-балаболку думает. Чудная она. С ней как-то тревожно. Хорошая Любка. И отчаянная. Ей бы пулеметчицей быть. Только ведь тоже на фронт не возьмут.
Кончился переулок — влился в Киевскую. А Киевская- уже главная улица города. Народ снует, очереди шумят у магазинов, извозчики лошадей погоняют, на углах торговки продают липучие леденцы и лепешки, похожие на серые булыжники. А поперек улицы плакат — черными буквами: «Долой капитал!» и красными: «Да здравствует труд!»
А потом по улице зашагал отряд красноармейцев: молоденькие все ребята, в новых гимнастерках, солнце на штыках играет.
О, если бы было можно, если бы только было можно и Феде шагать в этом красном отряде! Как бы он бесстрашно сражался с беляками! Может быть, он даже убил бы какого-нибудь генерала.
Ушел отряд, затерялся его шаг в шумах Киевской.
И видит Федя — стоят на углу двое: один — седой и краснорожий, золотая цепочка от часов торчит из маленького кармана брюк, руки засунул за черный жилет и пальцами там водит чего-то; другой — тощий и длинный, очки на носу, и бородка у него жиденькая. Стоят и — шу-шу-шу — Друг другу. И хихикают. Над чем это вы хихикаете, господа хорошие? Подошел Федя ближе и слушает.
— Советчики-то, Иван Липыч, закопошились! — говорит тощий. — Как тараканы перед пожаром.
«Сами вы тараканы», — думает Федя, однако молчит, слушает дальше.
Иван Липыч поотдувался, поиграл золотой цепочкой и басом:
— Пусть тешатся. Слыхали? Деникин-то Орел взял!
— Да ну?
— Доподлинно. Говорили мне… — нагнулся к уху тощего и зашептал: — к Покрову ждать можно.
— Неужто дождемся, Иван Липыч? — Очки запрыгали на носу тощего. — Аптечку я свою снова открою, а?
— Откроете, будьте покойны, — как в трубу бубнит Иван Липыч. — Придет старое времечко. Антанта за нами. А это — сила! — И глаза вылупил.
У Феди зажглось в груди. Вот оно что! Вот чего вы ждете! Подошел он к ним и сказал звонко:
— Буржуи вы недобитые!
Те двое враз смолкли и бочком, бочком — за угол. А Иван этот самый Липыч оглянулся на Федю и побежал. Во потеха-то! Свистит им Федя вслед, улюлюкает:
— Гля, гля, буржуи недобитые бегут!
И тут издалека медные удары поплыли: бом-бом-бом… Звонарь на церковной колокольне звонит. Церковь хоть и далеко, а везде слышно звон этот. Одиннадцать бомбомов. Скорее в типографию! Ведь Феде надо еще своего Мишку проведать.
А типография — вот она, рядом. Около стеклянных дверей типографии два каменных льва дежурят. Сели, как собаки, и зажмурились. Ленивые. Федя любит этих львов. Они всегда дремлют, а зеленоватый гранит, из которого они сделаны, кажется прохладным и таинственным. Особенно нравится Феде лев, что сидит справа: у него нос треснул и от этого льва немножко жалко.
Рядом на фанерном щите сегодняшний номер «Коммуниста» прикреплен. Люди сгрудились, читают. Федя протолкался через толпу к самой газете, В рамочке: «Вторник, 19 августа 1919 года». Тут же: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» И еще: «Цена 65 коп.».
Рабочий в замасленной спецовке вслух читает передовую «Танец мертвецов».
— «Мы говорим сегодня, — торжественно читает он, — как бы ни бесилась белая контрреволюция, сколько бы ни присылали Деникину пушек капиталисты Англии и Франции, — нет такой силы, которая сломила бы нас, в жестоком бою обретших свободу!- Прервался голос от волнения, закашлял рабочий и дальше читает: — Но сейчас грозное время. Деникин рвется к сердцу нашей революции — красной Москве. Так пусть же набатом звучит клич: все на борьбу с Деникиным!»
Вокруг — толчея, жаркое дыхание. Вспыхивает разговор.
— Ишь ты! Все на борьбу!
— Во пишуть! Аж под грудками заходится.
— Белякам все одно — крышка!
— Ета ишо поглядеть надо.
— А ты што? За Деникина?
— Зенки не пяль, не застращаешь. У нас свободомыслия.
— Намедни на Дворянской опять советчика стукнули.