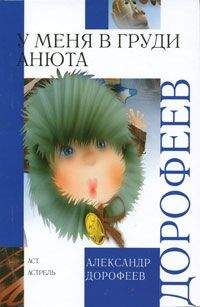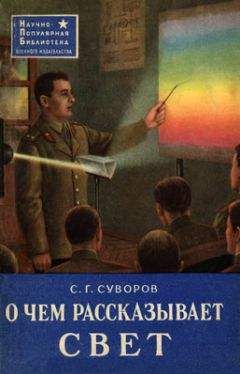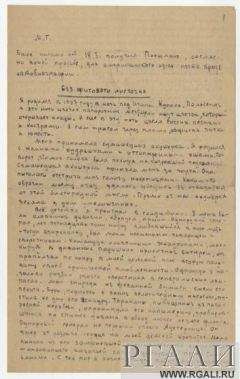Хотя уже на другой день генерал Анастасио де ла Техада приказал разбирать дворцы и поганые храмы, чтобы из их камней возвести собор пресвятой Богородицы, крепость и дома, где прилично жить белому человеку.
Генерал сам облюбовал большой черный камень, который тут же заложили в основание церкви. Это был тот самый жертвенный течкатль, на котором резали людей и вырывали сердца.
То и дело, натыкаясь на древних идолов, солдаты вскрикивали: «Дьяболос! Паганос! Кабронес!» И сокрушали их прикладами мушкетов или топорами. Сожгли между прочим дом рукописных свитков, хранивших предания племени майя, и храм со священными мощами – останками двух ног и черепа коня Эрнана Кортеса.
Так лиса, залезая в чужую, облюбованную ей нору, спешит нагадить, чтобы прежние хозяева уже никогда не вернулись.
Впрочем, кто из завоевателей ведет себя иначе?
Однако Пибиль вернулся в город ближайшей безлунной ночью, надеясь, что испанцы еще не добрались до сундука атлантов.
«С детских лет скрываюсь и таюсь, – огорчался по пути. – Но хватит! Достаточно! Сегодня последний раз», – пообещал себе.
Отовсюду доносилось любовное пение лагартих – оглушительное и жуткое, будто скрежет каменных сцепившихся мечей.
Зато можно без опаски расширить пролом в пирамиде. Втиснувшись кое-как, Пибиль угодил в кромешный мрак, словно Ах-Пучу запазуху. Больно ударился об острый угол, а под ногой его рассыпались в прах высохшие, как цветок мертвых-земпасучил, останки деда Чанеке. Наконец зажег масляный светильник.
Резная плита так тяжело и покойно укрывала сундук, что и тронуть неловко. Пибиль ходил вокруг да около, пока не наткнулся на брошенный им же колун. Подцепил плиту, и она едва-едва, вторя пению лагартих, нехотя сдвинулась.
Показалось, что из глубин сундука выпорхнула невидимая ночная птица. Либо чей-то древний вздох.
Только к рассвету Пибиль смог оттеснить плиту настолько, чтобы просунуть руку.
Ухватив что-то гладкое и холодное, извлек хрустальный череп тончайшей работы. Хотя он оказался не совсем таким, каким являлся во сне. Вытянутый и расплюснутый в виде мотыги. Но главное, молчаливый, в отличие от болтуна Хун-Хунахпу.
Держа его на ладони, Пибиль заглянул в сундук, доверху набитый свитками с туманными письменами и рисунками. Тем временем Хун-Хунахпу всхрапнул и пробудился. Пискнул, как колибри, и забормотал на безвестном наречии.
В тот же миг через дыру в стене скользнул первый солнечный луч. Коснулся макушки хрустального черепа и пронзил его насквозь с гулом, с присвистом, ударив из глазниц слепящими пучками точно вглубь сундука. Да так сразу полыхнули свитки, что каменная плита подскочила и съехала на пол. И лишь серый пушистый пепел пошевеливался на дне каменного хранилища атлантов…
Сжимая коварный череп, Пибиль выбрался на волю и вздрогнул, услышав голос караульного: «Парате! И но те муэвес!»
Пибиль замер на ступенях пирамиды, – растерянный, с хрустальным черепом, сияющим, как солнце из-под мышки.
Впрочем, стоять без движения, исполняя приказ, – хуже некуда. Ноги его, как прежде, легки. К тому же знакомы все переулки, ходы и лазейки в изгородях. Только бы не обронить череп!
Странно, но в этот ранний утренний час за Пибилем погнался весь город. То ли сияющий череп настолько всех взбудоражил?
Голые собаки выскакивали с ревом, не признавая своего. Дурачки бежали следом, весело возглашая: «Вот он фазан! Вот он олень! Вот он тайный кролик!» Даже толстые игуаны не спешили уступать дорогу. Тайясаль за одну ночь стал чужим и не узнавал своего ахава.
Примчавшись на берег, он затаился в тростниковых зарослях. Поблизости топали солдаты.
– Эста пердидо! – крикнул один другому. – Эль каброн се аого! Перо диспара уна бес.
Пибиль понял, что его потеряли и обзывают почему-то утонувшим козлом, но все же хотят выстрелить. И тут же рядом, срубив несколько стеблей, проверещала пуля. А череп ни с того ни с сего закрякал, как раненая утка. Какие мысли вспыхивали в его хрустальных глубинах? Чего добивался? Хорошо, что солдатам было не до дичи…
Пибиль просидел еще час в тростнике и тихо погрузился в воду. Последний раз плыл через озеро Петен-Ица. В правой руке держал череп, а левой загребал осторожно, чтобы не наделать шума. Едва поднимал голову. Только достигнув середины озера, поплыл свободнее.
И вдруг Хун-Хунахпу, щелкнув челюстью, тяпнул за палец.
Пибиль, как много раз, когда его щипали омары крабы, отдернул руку. А череп, скользнув, будто медуза, едва различимый в воде, быстро опустился на илистое дно, где и замер рядом с идолом Циминчаком и останками Балама, уставившись в его пустые очи. Наверное, и сейчас там лежит, дожидаясь заката Пятого солнца.
Возможно, когда взойдет Шестое, череп Хун-Хунахпу еще взглянет на него хрустальными глазницами.
«Все, болван, потерял! Все сквозь пальцы утекло! – негодовал Пибиль, пробираясь сквозь сельву. – Пусть теперь будет, что будет!»
От расстройства он даже немного заблудился.
Йашче не ожидала, что муж возвратится так скоро и в таком потрепанном виде.
– Тебя свергли? – удивилась она. – Ну, мог бы захватить чего-нибудь для мальчиков! Они уже скоро появятся на свет.
– Какие мальчики? – не понял Пибиль, еще возбужденный побегом. – Откуда?
– Будто сам не знаешь! – ласково улыбнулась Йашче.
Несколько дней он лежал, как сломанный лук, вздыхая о прошлом и нынешнем, обо всем на свете. Увы, лишь одна старинная птичья маска с длинным клювом осталась ему на память о Тайясале.
«Поднять, что ли, восстание?! – думал Пибиль, покачиваясь в гамаке и задремывая. – Да это не умнее, чем совать палку в чужое колесо! Никакого толку! Утекло наше время, просочилось сквозь землю, и неизвестно, когда взойдет на небо. Как говорил прадедушка, – покинувшие колесо Вселенной живут другими заботами».
– Ну, какие у нас заботы? Легкие твои ноги, да голова тяжела! Всего у нас достаточно! – успокаивала Йашче. – И будь, что будет, а я знаю, – все хорошо, когда мы рядом…
Она давно привыкла к сельской жизни, словно никогда и не была духом миндального дерева. Уже очень редко пела и танцевала, да и колдовство, позабыв, оставила.
Йашче плела крючком плотные широкополые шляпы и корзины, шила платья для девочек и штаны мальчикам, жарила кукурузные лепешки на глиняной сковороде и варила компоты из всех фруктов, что созревали в их саду.
Да и Пибиль со временем начал сомневаться, был ли он ахавом города Тайясаля, или все это, включая хрустальный череп, приснилось в дурную ночь.
Он много рыбачил. Чаще всего попадался уачинанго – морской зубастый окунь. Но, кроме того, – меро, сабало, моххара, тунец и парго.
Закидывая сеть, Пибиль вытаскивал таких больших омаров, которые клешней могли перекусить руку.
А еще возделывал мильпу – сорок ступней в длину и столько же в ширину. Сажал тыквы и фасоль. Ему нравилось молоть маис зернотерками-метатес да гнать брагу из кактуса магея.
Он полюбил копаться в красноватой земле, на которой выросло столько людей майя.
Все его дети от Йашче были цвета зрелых миндальных косточек, чуть-чуть в красноту, которую давала, вероятно, здешняя почва.
Трое мальчиков-наследников сначала помогали отцу, выкапывая на берегу из горячего песка черепашьи яйца и охотясь на молодых игуан, а теперь работали на мильпе, расширив ее в двадцать раз.
Пибиль, подобно бабушке Бехуко, поклонялся богине домашнего очага Чантико, и она, в меру своих сил, берегла всю семью.
Жизнь все же шла как-то дальше. Непонятно как, но шла. Временами быстро, иногда замедлялась, а потом вновь спешила.
По крайней мере, так было до тех пор, пока не умерла Йашче.
Это случилось в один день, очень быстро, как с тем миндальным деревом, листья которого сожрали гусеницы. Еще утром Йашче, как ни в чем не бывало, готовила завтрак, а к полудню вдруг слегла.
Пибиля не было дома, а когда он вернулся, то не узнал жену – она пожелтела и скрючилась, точно сухой стебель.
– Может быть, я обманула твои ожидания, – прошелестела, словно опадающий лист. – Хотя всегда старалась не вводить тебя в грех. Жалко, что оставляю одного таким старым. Но обещаю приглядывать, насколько сил хватит.
Пибиль похоронил ее в саду, а через два виналя над могилой Йашче выросло миндальное дерево.
Оно заботилось о семье, давая орехи, молоко и масло. Все чуть-чуть горьковатое.
По ночам Пибиль поднимался на пирамиду над морем, куда когда-то донеслись непонятные слова Гереро. Храм на вершине был разрушен, но еще валялись выпуклые обломки каменного гамака, из которого жрец Эцнаб вылетал на встречу с восходящим солнцем.
Прошло два века и один год с того раннего утра, когда Гереро очнулся на песке у подножия этой пирамиды.
Пибиль, надевая птичью маску жреца, горевал и плакал о судьбе своего народа, ушедшего, как сдутые ветром слова. Когда слез не было, он посыпал глаза золой и вновь плакал.