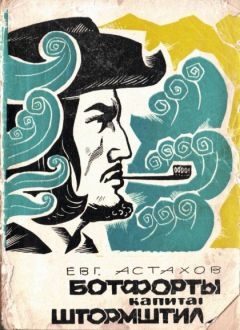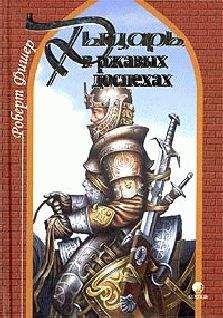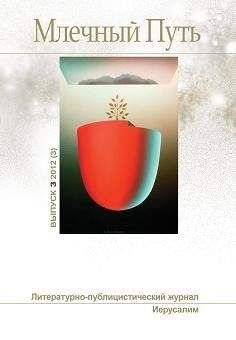— Тумоша! Тумоша! — пронзительно кричал худощавый высокий старик, размахивая коптящим факелом. Он подошел к дяде Гоге, протянул ему руку.
— Здравствуй!..
Потом, оглянувшись, еще раз нетерпеливо позвал:
— Тумоша!..
Из темноты вынырнул мужчина лет тридцати пяти в черкеске с пустыми газырями и в широких, свисающих на колени, бриджах из домотканого сукна. У него было добродушное лицо с коротким курносым носом и полными улыбающимися губами. Совсем светлый, соломенный чуб падал на глаза.
Старик что-то отрывисто сказал ему. Тумоша одернул черкеску и, прихрамывая, подошел к Ираклию Самсоновичу.
— Мой отец, Хабаджа, просит вас всех быть его гостями, — сказал он со свистящим абхазским акцентом. — Проходите в дом, лошадей мы сами развьючим. Женщины уже кипятят воду, скоро будет мамалыга.
Большой дом стоял на столбах, сложенных из дикого камня. Все в нем было сделано из дерева: полы, стены, потолки и мебель. Большая керосиновая лампа освещала гладко оструганные доски стен и затейливый орнамент резных столбиков, на которые опирался навес над галереей. Дерево имело какой-то необычный красновато-коричневый оттенок.
— Что это за порода такая? — спросил Тошка у дяди Гоги, потрогав пальцем стену.
— Тис — красное дерево. Ценнейшая древесина. Сейчас беспорядочная рубка тиса запрещена, но этот дом шестьдесят тому назад. Так строился, вероятно, лет ведь? Слушавший их Тумоша улыбнулся. — Даже больше, чем шестьдесят. Этот дом строил отец моего отца, когда был еще совсем не старым человеком.
— Простите, Тумоша. — Ираклий Самсонович поправил пальцем очки. — Я не первый раз в Абхазии, но никогда не слыхал такого имени, как ваше. И редко встречал среди абхазцев блондинов.
Тумоша весело рассмеялся и быстрой скороговоркой перевел слова Ираклия Самсоновича собравшимся в комнате мужчинам. Они долго смеялись, хлопая себя ладонями по коленям, и даже строгий Хабаджа улыбнулся, погладив рукой короткую седую бороду. Потом лицо Тумоши стало серьезным.
— Я не абхазец, — сказал он. — Я русский.
— И мне так показалось… — Ираклий Самсонович покачал головой. — Откуда же вы родом?
— С Волги. Там город такой есть — Самара. Тошка так и присел. Это надо же! Встретить земляка, да где — у черта на самых рогах! Отсюда, небось, год иди, и то до Волги не доберешься. И потом, если он и вправду из Куйбышева, то почему называет его на старый лад — Самарой? Да и говорит по-русски неважно, чувствуется, что все время подбирает слова.
— Значит, из Самары? — переспросил Ираклий Самсонович. — Ну, раз так — принимайте земляка. — И он подтолкнул вперед Тошку.
— Э-э! — воскликнул Тумоша и снова начал что-то быстро говорить по-абхазски. Все вскочили на ноги и, окружив Тошку, принялись его разглядывать, словно он был невесть какой диковиной. Хабаджа тронул его волосы, потом волосы Тумоши.
— Он говорит: я такой был тогда, — перевел Тумоша. — Только ростом поменьше и совсем худой, как плохая овца.
Из насквозь прокопченного длинного сарая, где в подвешенном на цепи котле уже булькала мамалыга, прибежали женщины. Только та, что мешала мамалыгу, осталась и продолжала мерно шлепать деревянной лопаткой, сбивая в тугой комок янтарную, пышущую жаром массу.
— Та-та-та!.. — стрекотали женщины, а Тошка стоял красный и смущенный и не знал, куда девать руки. — Тумоша!.. Тумоша!.. Та-та-та!..
— Э-э! — снова сказал Тумоша, и женщины разом смолкли… — Здравствуй, земляк! — И он протянул Тошке широкую ладонь с короткими, сильными пальцами…
Женщины внесли на веранду низкие, чисто выскобленные скамейки.
— Не садиться! — шепнул дядя Гога Володе и Тошке. — Это стол.
Мамалыга плюхалась на блестящую каштановую доску аппетитными круглыми шарами. Их тут же подравнивали тоненькой. лопаточкой. Шары опадали, сплющивались, и уже через минуту на скамейке выстроилась ровная мамалыжная шеренга. Женщины исчезли и тут же вернулись с деревянным блюдом. На нем исходила паром груда вареных кур. Хабаджа ловко, как фокусник, разрезал их на части и лучшие куски протянул гостям.
Мамалыгу едят только горячую, с пылу, с жару. Остывшую мамалыгу сравнивают в горах с никчемным, пустым человеком, который ни на что не годен.
Мамалыгу не разогревают, от пустого человека проку не ждут. Нет ничего хуже, чем оказаться холодной мамалыгой…
— А чем ее есть? — тихо спросил Тошка дядю Гогу.
— Пальцами, Антонио, пальцами!
Тошка невольно вспомнил маму. Видела бы как он наворачивал моченки, как нажимал на чеснок, а теперь вот забирается пальцами в раскаленную мамалыгу и, обжигаясь, роняет ее себе на брюки.
У всех эта необычная еда пальцами получалась как надо. Даже у Володи. Он очень здорово подхватывал щепоткой комочки мамалыги, дул на них, отправлял в рот и преспокойно заедал куриной ножкой. Дядя Гога даже сказал ему:
— Смотри не покажи какой-нибудь фокус с исчезновением курицы Хозяин может неправильно понять тебя и обидеться.
Тошка подумал, что он может заедать мамалыгу уже не курицей, а собственными пальцами — они почти сварились.
Наконец мамалыга начала маленько остывать. Но ее тут же смахнули в корзину и шлепнули на стол новую порцию. Еще горячее первой.
Теперь Хабаджа длинным, тонким ножом разрезал бурую голову копченого овечьего сыра. Здоровенные ломти воткнули прямо в мамалыжные горки. Ломти сразу сделались мягкими, вязкими и резиново поскрипывали на зубах, а мамалыга стала еще желтее.
«Ладно, — подумал Тошка, — шут с ней, с обжигаловкой этой, поем хоть сыру. Ну, а Володя ясно почему так ловко управляется — его в цирке абхазец-буфетчик научил».
Вновь остывала мамалыга, и вновь приносили в котле горячую. А остывшую, как никчемного, пустого человека, сметали с дороги чтоб не мешал заниматься делом.
Женщина с темным, добрым лицом протянула Тошке деревянное ведерко. В нем лежали соты, полные меда и сонных пчел.
— Пчел не бойся, — сказал дядя Гога. — Они здесь почти не кусачие.
«Раз «почти», значит, все-такие кусачие», — подумал Тошка, но постарался как можно смелее ухватить пальцами кусок сотов, на котором было поменьше пчел. Как ни странно, они и вправду не укусили его.
Ужин подходил к концу. Вокруг веранды бродили круглоголовые, лохматые овчарки. Они не принюхивались к запахам еды, не виляли хвостами и не заглядывали умильно в глава сидящих за столом. Они вели себя достойно и солидно, как и подобает кавказским овчаркам. Даже когда они голодны.
Вот одна из них села неподалеку от Тошки, с равнодушным видом оглядела его и зевнула. Длинный красный язык свернулся влажной трубочкой.
— Можно дать ей костей? — спросил Тошка.
— Она не возьмет их у тебя. — Дядя Гога достал из кармана кисет с махоркой. — Здесь, брат, горы, в горах бывает разное, и поэтому собака должна верить только своему хозяину. Иначе это уже не собака, а холодная мамалыга.
«Да, — подумал Тошка, с уважением поглядывая на овчарок, каждая из которых была ростом с хорошего теленка. — Это тебе не свита Оришаури…»
После ужина мужчины долго курили, а потом начался разговор об организации базы отряда и о том, кто согласится быть проводником.
— Мой отец так говорит. — Тумоша тронул Ираклия Самсоновича за колено. — Хотите база называйте, хотите другие научное слово, отец называет — гости. Гости приносят в дом счастье. Отец благодарит вас за то, что вы нашли в горах его хутор. Он говорит, что поведет вас, куда скажете. Хочет еще раз сходить с геологами.
С трудом подбирая слова, Ираклий Самсонович сказал что-то по-абхазски. Тошка понял — благодарит за гостеприимство.
Все одобрительно закивали головами и заулыбались.
Тумоша взял с полки гармонь, приладил ее на колене, провел ладонью по басам. Они вздохнули тяжело, по-старчески. Потом задумчиво тронул пальцем одну перламутровую пуговку, другую, третью. Каждая ответила по-своему.
Он обвел глазами комнату: красноватые стены, кремневые ружья, висящие на козьих рогах, медвежьи шкуры на полу, портрет под стеклом, в правом углу, на самом почетном месте.
Все сидели тихо. Дядя Гога незаметно тронул Тошку за плечо — что-то сейчас будет.
Гармонь снова вздохнула, а потом высоким, совсем волжским голосом завела песню, протяжную и, как показалось Тошке, полную тревоги и боли. Тумоша наклонил лицо к самым мехам, и Тошка даже не заметил, когда вплелся в песню мягкий голос его земляка. Он пел по-абхазски, и чувствовалось, что песня сложена им самим и поет он о себе и о том пути, который привел его сюда, в горы.
Песня была очень длинная. Иногда кто-нибудь из гостей Хабаджи начинал тихонько подпевать Тумоше. Тошка вслушивался в звуки непонятного ему языка, такого непохожего ни на какой другой язык. Ему почудилось, что он несколько раз уловил знакомое слово. Вернее, не слово, а фамилию: