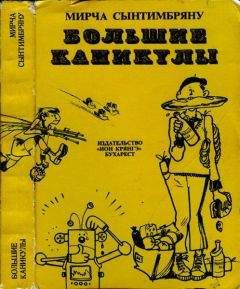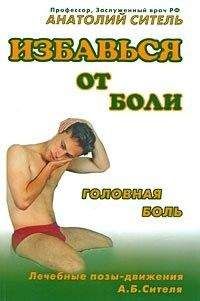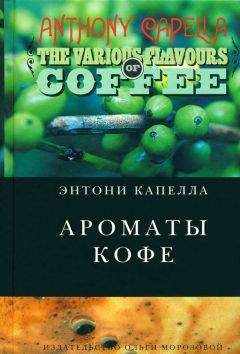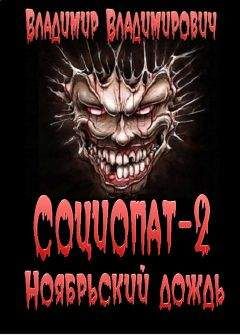«Это лестница на второй этаж! — воскликнул он про себя, потому что никогда не жил в многоэтажном доме, и это показалось ему чем-то особенным. Во всяком случае, чем-то совсем необычным.
Он как раз собирался подняться по лестнице, когда увидел на дверях через площадку табличку и понял, что там живет сосед. „Франчиск Кристя“ — прочитал он по слогам. Значит, соседа зовут Франчиск. Виктор будет звать его дядя Фери! Какой он? Молодой или старый? Есть у него велосипед? А патефон или радио? Умеет ли он играть в шахматы? Есть у него дети? И кем он работает?
„Нет, детей у него нет“, — понял мальчик, убедившись, что в комнате целый день тихо.
Однако часа в три он услышал, что там кто-то насвистывает. „Сейчас я с ним познакомлюсь“, — подумал Виктор и выбежал в коридор. Скоро сосед вышел. Это был молодой, высокий человек, с черными глазами и усиками. На нем был тренировочный костюм вишневого цвета, на ногах — футбольные ботинки, а в руках мяч.
— Папа, наш сосед — футболист! — крикнул Виктор, врываясь в комнату, где его отец как раз снимал свою шахтерскую робу.
— Да, и к тому же — очень хороший. Вы еще не познакомились?
Мальчик обрадовался. Он тоже играл в футбол. И тоже ходил на матчи. И он стал мечтать о том, как они познакомятся, поговорят о футболе и даже вместе погоняют мяч. Но сосед в тот день больше не показался.
Назавтра мальчик увидел его только под вечер. Он как раз хотел спросить, кем, по его мнению, лучше быть — вратарем или нападающим, как вдруг остановился в недоумении. На этот раз сосед был одет в черный костюм и белую рубашку, а под мышкой нес скрипичный футляр.
— Значит, он не футболист», — подумал мальчик. И подождав, когда сосед отойдет, крикнул в окно комнаты, где отец читал газету:
— Папа, наш сосед — артист!
— Да, и очень хороший, — ответил отец. — Вы все еще не познакомились?
Виктор обрадовался еще больше. В Петрошань он несколько раз был с отцом на концертах и мечтал играть на трамбоне или барабане в шахтерском духовом оркестре. Мальчик с нетерпением ждал, когда же наконец можно будет поговорить с соседом. Может быть, тот даст ему маленький барабанчик — из тех, на каких играют ученики? Или хотя бы флейту…
Но они встретились лишь на следующий день, вечером. Виктор опять хотел было остановить соседа, но, рассмотрев его, прирос к месту. Сосед был одет, как все, а под мышкой нес большую чертежную доску и целую кипу книг.
«Значит, он — не артист», — подумал мальчик и помчался на кухню.
— Папа, нам сосед, наверное, студент в Петрошань.
— Да, и очень хороший. Как я вижу, вы все еще не познакомились…
Виктор был страшно рад. «Раз он студент, — думал мальчик, — он покажет мне свои книги и картинки. И расскажет много интересного… Студенты столько знают!»
Лежа в постели, Виктор никак не мог заснуть. «Как же новый сосед может быть и артистом, и футболистом, и студентом? — спрашивал он себя. — Что, у него три специальности? Целых три? И все сразу?»
Проснулся он чуть свет. Отец собирался на работу.
— Папочка, скажи, у дяди Фери три специальности?
— Нет. Всего одна: он шахтер.
Мальчик вышел в коридор и тут увидел соседа в прорезиненной блузе, в шахтерском шлеме и с лампой.
— Значит, он — шахтер, — прошептал мальчик.
— Да, и очень хороший, — засмеялся отец, выходя из комнаты. — Именно поэтому он и может играть в футбол, играть на скрипке и, кроме того, учиться…
Виктор был вне себя от радости. Ведь он тоже хочет стать шахтером! Но и футболистом, и студентом, и артистом… как новый сосед!
И увидев, что его отец вместе с дядей Фери уже выходят за ворота, он подбежал к забору и крикнул им вслед, как принято среди шахтеров:
— Желаю удачи!
Потом вернулся домой, снова лег и заснул как сурок.
ОДНАЖДЫ, В ВЕСЕННИЕ КАНИКУЛЫ, я посетил Исторический музей. У выхода, собираясь записать свои впечатления, я не спеша листал страницы книги, покрытые множеством подписей, как вдруг мой взгляд привлекла одна из них. Это была самая обыкновенная страница; вверху написано несколько строк, потом идут два столбика подписей. Страница как страница. И все-таки, повторяю, я не мог оторвать глаз от этих продолговатых, чуть наклонных, с нажимом букв, выведенных так, словно человек писал не на столе, а на согнутой спине или в тесноте и давке… Я узнал этот почерк! Я видел его когда-то десятки и сотни раз, я знал его так же хорошо, как свой собственный. Эта неожиданная встреча вызвала у меня впечатление, что где-то рядом стоит, глядя мне в спину, близкий и дорогой человек и ждет, когда я его узнаю. Я повернулся. Никого… Только по залам робко, почти на цыпочках, передвигаются группами десятки ребятишек и с ним сопровождающие — некоторые пожилые, с белыми как снег волосами — учителя. И тут у меня в мозгу словно вспыхнула молния, и я, к моей радости, вспомнил… Да, это он! Это его почерк! И в конце длинного ряда имен я прочитал, написанное теми же продолговатыми буквами, с нажимом: «Учитель Думитру Миронеску».
Мой бывший учитель!
Он вошел к нам в класс осенью 1945 года. В накинутом на плечи пальто, высокий, сильный, но худой и бледный. Глаза его горели под высоким лбом, как после тяжелой болезни. Сначала он остановился и взглянул на доску. Как обычно, я записал на ней «плохих учеников», и слова, корявые, с ошибками заполнили всю доску:
«Анастасе разлил папарте чирнила.
Испас смишит рибят и абзываится.
Ге. Флоря аткрываит акно и делаит скв. (сквазняк)…»
Он прочитал все до конца, потом покачал головой и повернулся к классу:
— Чья это работа? — спросил он мягким и тихим голосом.
Я гордо поднялся с парты.
— Моя! Я — староста. А это — плохие ученики.
— Плохо!
В классе вдруг поднялся невообразимый шум. «Записанные» кричали, вскакивали, тянули пальцы, как целый лес вилок.
— Он врет! У него на меня зуб! Про Войку, небось, не написал! Я скажу все! Дайте мне написать! Мне! Мне!
Учитель поднял руку и шум прекратился. Потом он повторил, словно про себя:
— Плохо… — подошел ко мне и, потрепав меня по плечу, сказал — Сотри, пожалуйста, все, что там написано.
Он прошелся между партами, перелистал несколько тетрадей и — в третий раз за этот день — едва слышно вздохнул:
— Плохо!
Потом остановился перед классом и заговорил:
— До недавних дней шла война, дети. И вы учились, как попало. Теперь нужно будет работать серьезно, горячо, не жалея сил. Достаньте тетради и запишите первое задание.
И в то время, как дети рылись в партах и ранцах, он скинул пальто и направился к доске. В тот же момент — я помню как сейчас, — словно чья-то рука вдруг сдавила всем горло, и шелест тетрадей прекратился. Мы смотрели на него, окаменев, а он, стоя у доски, писал, с натугой, криво выводя продолговатые буквы, строку за строкой. У нашего учителя не было правой руки! Он потерял ее на фронте, сражаясь с фашистами. И теперь писал левой…
Наконец он повернулся к классу, бледный, на лбу сверкают капельки пота, и заговорил тихо, дрожащим голосом:
— Обещаю вам в следующий раз написать красивее.
К зиме он писал на доске без всякого усилия, а проверяя наши тетради и исправляя красным карандашом букву за буквой, каждый раз добавлял в конце: «Внимательнее» или «Аккуратнее» или иногда: «Хорошо, я доволен». Мы смотрели на его продолговатые, с нажимом, словно срисованные из букваря буквы, сравнивали с тем, как пишем мы… И чаще всего нам становилось стыдно, и мы молча давали себе слово писать так же, как он… Странно. Сами того не замечая, мы начали подражать ему. Мы почти все писали с легким наклоном влево, но буквы чаще всего получались уродливые, скученные, кривые. И на следующий день мы с огорчением читали в своих тетрадях все те же слова, словно переписанные из букваря красным карандашом: «Аккуратнее» или «Внимательнее», — и снова принимали решение стараться. И старались, как могли, одну за другой вырывали испорченные страницы, а сдавая ему тетради мечтали о том, что он напишет внизу: «Теперь лучше, я доволен».
И всех нас мучил вопрос: «Как он может писать так быстро и так красиво левой рукой?» Нередко он писал на доске на наших глазах, согнувшись в три погибели, чтобы заполнить всю доску, потом поднимался вспотевший, но довольный, и улыбался:
— Перепишите!
Но в один прекрасный день мы узнали его секрет.
— Хотите, я вам что-то покажу? — спросил нас сын уборщицы, учившийся в нашем классе. — Глазам своим не поверите! Приходите завтра пораньше.
Мы пришли. Еще не рассвело. Во всей школе — лишь одно освещенное окно, в нашем классе. Мы сгрудились под окном и заглянули в класс. Учитель стоял у доски. Он сбросил пальто с плеч и писал. Медленно, старательно, букву за буквой… Заполнив доску, он отошел на несколько шагов и взглянул на нее. Тут мы тоже увидели всю доску. На ней не было ни слов, ни предложений. Сверху донизу ее заполняла всего одна буква: А большое, а маленькое.