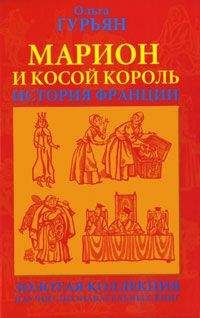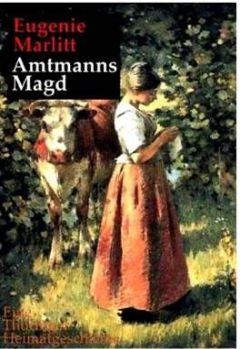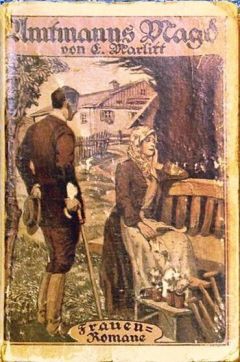— Эх, упрямец, не заботишься ты о своем здоровье. Не хочешь мыться, разотрем тебя ароматными мазями, и покушаешь ты лекарственную кашку из алоэ, превосходную для пищеварения и против болезней сердца…
— Черт побери! — закричал гость. — Не хочу я кашку, а дайте мне жареного гуся и еще что-нибудь, и я буду здоров.
Не прошло и получаса, как гость, одетый в чистую одежду и крепко пахнущий лекарственными мазями, сидел за столом, поглощая одно блюдо за другим. Когда он насытился и со счастливым вздохом откинулся на спинку скамьи, хозяйка заговорила:
— Все-таки что же с вами случилось?
— Не хочу я слышать дурные вести! — вскрикнул бакалейщик, заткнул уши и скороговоркой заговорил: — Чтобы сохранить мое здоровье, не следует мне ни бояться — но как не бояться, когда сейчас такие беспокойные времена! — ни раздражаться — но как не раздражаться, когда жизнь так подорожала! — ни смотреть на безобразные вещи — а ты приходишь весь ободранный и избитый! — ни слушать печальные песни — а других теперь не поют! — ни узнавать дурных новостей, ни размышлять о прошедших неприятностях, а по утрам жевать зеленый листик с дерева, удаляющий неприятный запах. Так учит нас книга «Тайна тайн», где содержатся все тайны, и я…
Гость раскатисто засмеялся и сказал:
— Не бойся и не пугайся, и раздражаться тебе не с чего. Ведь все неприятности случились со мной, а тебя ничего не коснется, пока ты сидишь в своей лавке, торгуешь имбирем, размышляешь о перце и не высовываешь нос на улицу. А вот мне есть о чем рассказать, возвратясь из дальних странствий, и начинаются мои приключения удачно и весьма выгодно.
Кюгра вынул палец из одного уха и повернулся к рассказчику.
— Так мне повезло, — начал Гротэтю, — что благополучно добрался я до Руана и в целости довез туда перец, гвоздику и другие пряности, которые я взял здесь в кредит. Все это я быстро распродал по хорошей цене и часть денег припрятал, чтобы по возвращении в Париж расплатиться с моими кредиторами, и в первую очередь с тобой, дорогой Кюгра.
— Это приятно слышать! — воскликнул бакалейщик и вынул палец из второго уха.
— Часть денег я припрятал, зашив их в пояс, и в подкладку плаща, и в замшевый мешочек, который ношу на груди под рубашкой. А на остальные деньги я закупил фландрское сукно и английскую шерсть, чтобы здесь продать их с прибылью. Нанял я возчика и повозку, нагрузил ее тюками и направился в обратную дорогу. Но не успел я отъехать и на полдня пути от Руана, как остановила меня шайка арманьяков. Надо вам знать, что они повсюду там бродят и под предводительством отчаянных головорезов-рыцарей нападают на бургундцев и, если тех не слишком много, истребляют их.
— Тише, тише! — воскликнул Кюгра и даже изменился в лице. — Умоляю тебя, не говори дурного про арманьяков. Мы теперь в Париже все арманьяки, и я даже накидываю белый шарф, когда выхожу на улицу.
— Но мы-то тут все свои, — понизив голос, сказал Гротэтю. — И хочется иной раз поговорить по правде. А по правде, главное их занятие в том, что они устраивают засады на дорогах и останавливают путников, будь то мужичье, купцы или монахи…
— Неужто они даже монахов обижают? — спросила хозяйка. — Ведь за такой грех они попадут в ад.
— Это когда еще будет, — сказал Гротэтю. — Но я на них не жалуюсь. Они обошлись со мной вежливо, потребовали выкуп и обещали выдать мне за то охранную грамоту, где будет сказано, что я заплатил подорожный сбор сполна и больше с меня ничего не следует получать. «Доблестные рыцари, — говорю я им. — Я понимаю, что каждый зарабатывает на жизнь своим ремеслом и ваше ремесло, известно, благородней моего. Но во всем следует соблюдать меру, а вы запросили с излишком. Скиньте немного, и я заплачу». Они отвечают: «Мы не купчишки торговаться из-за мелочи. Плати сполна, не то худо тебе будет». Делать нечего, я отдал им деньги, зашитые в поясе, рассчитав в уме, что с излишком верну потерю, продав сукно, и еще кое-что мне останется, после того как я расплачусь со своими кредиторами, и раньше всех с тобой, друг Кюгра.
— Ты поступил правильно, — сказал бакалейщик и приставил ладонь к уху, чтобы лучше слышать.
— Вот еду я дальше, и ничто мне уже не страшно, потому что есть у меня охранный лист. Однако же, во избежание неприятностей, на ночь останавливаюсь в монастырях и за небольшую мзду получаю там ужин и связку соломы — самому выспаться и лошадь накормить. И вот еду я со спокойной душой, и день такой приятный, не жарко и не холодно, и вдруг в лесу окружает меня толпа мужичья и хватает за уздцы лошадку, и в одно мгновение растаскивают все мои тюки с сукном и шерстью. Я понимаю, всякий зарабатывает на жизнь чем может, а их пашни вытоптаны бродячими солдатами, и есть им нечего. Но грабить меня — это уж слишком бессовестно! Я достаю свой охранный лист, и показываю им, и объясняю, что они должны положить тюки обратно в повозку. Но они все безграмотные и не могут прочесть, что я все, что полагается, уже заплатил и теперь нельзя меня задерживать. И один из них взгромоздился брюхом на мою лошадку, ударил ез пятками в ребра и ускакал. Но лошадь ведь запряжена в повозку, и повозка вихляется по корням и ухабам, того гляди, ударится о дерево и разобьется в щепы. А возчик, вместо того чтобы схватить вожжи, огреть ими мужика и задержать бег лошади, прыгает на землю, и только я его и видел. А остальные негодяи взвалили тюки на спину и тоже скрылись.
Остался я один на дороге и размышляю, что есть еще у меня деньги в подкладке плаща и в мешочке под рубахой. И хоть ничего уже мне самому не останется, но хватит честно расплатиться с долгами. Мне снова поверят товар, и уже в следующий раз должно мне повезти счастье.
— Может быть, поверят, — сказал бакалейщик и слегка отодвинулся.
— Не могу сказать, что на душе у меня было уж очень радостно, — продолжал Гротэтю. — Однако же не поддаюсь я унынию. До Парижа близко, как-нибудь в два-три дня дойду пешком. И что же вы думаете? Уже увидел я издали высокие городские стены, и вдруг мне навстречу бургундские солдаты. И они не стали долго разговаривать, а содрали с меня и плащ, и куртку, и рубаху из тонкого полотна и увидели мешочек с деньгами и его тоже стащили, содрав мне шнурком кожу на шее. Я кричу: «Братцы, что же, я голышом пойду людям на потеху?» Они смилостивились и кинули мне эту куртку. Я пробую ее надеть, а она у меня под руками трещит и расползается. Но тут уж я не выдержал, как закричу: «Что вы делаете, негодяи! Дайте мне куртку пошире. Эта не лезет». Они меня в ответ обругали и избили немножко, но, к счастью, не совсем до смерти. И таким образом я добрался до Парижа, и, вспомнив, что не раз, дорогой мой Кюгра, совершали мы с тобой выгодные сделки, решил я первым делом обратиться к тебе, зная, что ты мне не откажешь.
— Так я и знал! — воскликнул Кюгра. — Так я и предчувствовал, что этим кончится! Товара нет, долги не уплачены, вид у тебя, как у ночного грабителя, а ты собираешься снова просить в кредит. Но, памятуя нашу давнюю дружбу, не могу я тебе не помочь. Так слушай же! В Париже сейчас хозяйничают арманьяки, а у тебя есть от них охранный лист, и это, может быть, тебе поможет. Но герцог Бургундский близко, и его солдаты шныряют по всем окрестностям, и, значит, скоро уехать отсюда ты не сможешь. И пока у тебя рожа, как у разбойника, лучше тебе не соваться в гостиницу, а поживи у меня. Только умоляю тебя, не высовывайся в окна, а то распугаешь всех моих покупателей.
— Тысячу благодарностей! — воскликнул Гротэтю и вытер слезу умиления.
— Ночевать будешь в чулане, там тебя никто не увидит. Кстати, портной оттуда сегодня выехал.
— Что же, нам еще долго спать в каморке Женевьевы? — вскричала Марго.
Хозяин посмотрел на нее, и она замолчала.
Глава девятая ПОЕЗДКА В ИНДИЮ
Дуют зимние ветры, проникают сквозь деревянные стены дома. По утрам вода в колодце покрывается корочкой льда, и Клод Бекэгю разбивает ее ломом. Но как хорошо, что во дворике есть колодец! Когда Марион в новом своем красном шерстяном платье и голубой пелеринке идет вслед за Женевьевой на рынок, она видит, как люди стоят в очереди у общественного фонтана и держат на плече кружку или ведро, потому что запрещено ставить их па землю, чтобы приставшей к их дну уличной грязью не замутить водоем.
Марион смотрит на посиневшие от холода лица, ищет, нету ли среди них господина Онкэна с тыквенной бутылкой в руках, замерзающего, дрожащего, в рваной одежде. И сама она, закутанная в теплую пелеринку, дрожит от беспомощного сострадания.
— Чего ты зеваешь по сторонам? — ворчит Женевьева. — Идем скорей, холодно.
Но и дома теперь трудно согреться. Ворота города опять замурованы, потому что герцог Бургундский с изобильным своим войском совсем уже близко. Ворота замурованы, и нет привоза дров. Маленькая вязанка, и полешки-то совсем сырые, стоит больших денег. Уже не приходится топить камины в комнатах, огонь горит только в печке на кухне. И вся семья — хозяева, гость и слуги сидят там по вечерам, греют руки и угрюмо молчат.