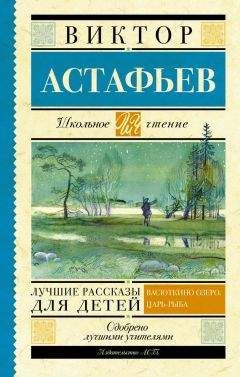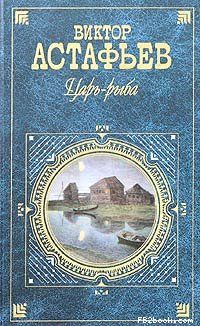Было это ранней зимой, а по весне Колька приволокся на глухое озеро пострелять уток. Бойе обежал лесом озеро, прошлепал по мелкому таю, остановился на обмыске и замер в стойке, глядя в воду. «Чего-то узрел!» – насторожился Колька. Бойе приосел в осоке, пополз к урезу берега, вдруг пружинисто взметнулся, бултых в воду! «Вот дурень! – улыбнулся Колька. – Засиделся коло дома, балуется». Но Бойе тащил что-то в зубах, бросил на бeрег, отряхнулся. Колька приблизился и опешил – в траве каталась щучина килограмма на два. Бойе ее лапой прижал, ухмыляется.
Услышав этакое сообщение, папа хотел дать охотнику порку за вранье, но Колька настоял сходить еще раз на озеро, потом, мол, лупцуй, если набрехал. Когда Бойе выпер вновь из воды щучину, папа, которого вроде бы ничем уже было не удивить на этом свете, развел руками: «Чего за свою бурную жизнь ни перевидел, – говорит, – приключений каких только ни изведал, однако подобного дива не зрел еще. Бестия – не кобель! Раньше бы меня повесили вместе с собакой на лиственнице або утопили обоих – за колдовство, привязавши к одному камню…»
В ту пору часть буксирных пароходов ходила еще на дровах. Надолго причалив к берегу у Сушкова, суда запасались топливом, которое тут зимами ширкал наезжий люд, все больше ссыльный.
Был Бойе большой любитель встречать и провожать пароходы. Однажды он забежал на буксир, отыскивая отца, подавшегося разведать насчет выпивки, и, пока хозяин искал горючку или пиво, а кобель искал хозяина, деляги с буксира поймали его на поводок. Никогда не кусал Бойе людей и не знал, что иной раз укусить их следовало бы. Пароход набрал дров, загудел и наладился отваливать. Тут и хватилась семья – нет кормильца и сторожа. Покричали его, позвали – не откликается.
Заревели ребятишки в голос, мачеха заревела – пропадать без собаки. Папа чалку не отдает. Капитан штрафом грозится за задержку судна. Ругались, ругались пароходные люди, но все же подали трап. Весь буксир обошел, обшарил поднабравшийся папа – нет собаки. И тогда он решительно крикнул:
– Ко мне, Бойе!
И тут же из машинного отделения буксира раздался рыдающий голос кобеля. Конфуз и паника были на пароходе, потому что папа рвался пальнуть из ружья по рубке капитана, но семья висела на нем, отымала ружье. Папа все же пальнул дробью вослед кораблю, да не достал, тот уже был далеко от берега.
Бойе отводил глаза, виновато вилял хвостом, стыдясь оплошки. К пароходам он с тех пор близко не подходил. Сядет на подмытом приплеске, посматривает на пароход и озирается на кусты, дескать, чуть что, дерану в лес, только меня и видали!
К поре моего свидания с семьей должность десятника на дровозаготовках крепко уже утомила папу, душа его жаждала перемен, бурной деятельности – замышлял он податься в начальники рыбного участка, так как по сию пору считал себя непревзойденным специалистом по обработке рыбы.
Я отговаривал родителя – только что был опубликован грозный, карающий указ о финансовой и иной ответственности, толковал ему о том, что семья, слава богу, при месте, от тайги питается мясом, рыбой, ягодами и орехами, мол, воздвиг досрочно Беломорканал и довольно с него трудовых подвигов, на что родитель ответствовал коротко и решительно: «Яйца курицу не учат!» И вскоре после моего отъезда подался-таки на руководящий пост.
Через год я получил от него письмо, которое начиналось словами: «Пишу письмо, – слеза катится…» По лирическому запеву послания не составляло труда заключить: папа опять проживает в «белом домике». И снова – в который раз! – затерялся, запропал след родителя, оборвалась непрочная, всегда меня мучающая связь с нашей нескладной и неладной семьей.
Лет десять спустя после встречи с отцом и семьею в Сушкове попал я на север по творческой командировке. На сей раз бог меня миловал – в Игарке ничего не горело. Последний раз пожар в городе был неделю назад и уничтожил не что иное, как позарез мне нужное заведение – гостиницу. Местные газетчики поместили меня в пионерлагерь, располагавшийся на мысу Выделенном – самом сухом и высоком здесь месте, с которого отдувало комаров, и детишки спали в домиках без пологов.
Утром я пробудился по горну, дождался, когда смолкнет ребячий гвалт, и отправился умыться на Енисей. Вышел, гляжу – сидит на крашеной скамейке худенький быстроглазый парень с красивым живым лицом, в кепке-восьмиклинке и приветливо улыбается.
Я заозирался вокруг – никого нигде не было, и тогда изобразил ответную улыбку. Паренек бросился мне на шею, сдавил ее костлявыми руками и, как бабушка из Сисима десять лет назад, библейски возвестил:
– Я брат твой!
Коля был и остался заморышем-подростком, хотя уже сходил в армию, выслужился до старшего сержанта. Не видавший добра и ласки от родителей, он искал ее у других людей. Где со слезами, где со смехом поведал он о том, как жили и росли они после моего приезда в Сушково.
Попав на руководящую должность, папа повел бурный образ жизни, да такой, что и не пересказать, будто перед всемирным потопом куролесил, кутил и последнего разума решился.
Однажды поехал он на дальние тундровые озера, на Пясину, где стояли рыболовецкие бригады, сплошь почти женские. Питаясь одной рыбой, они ждали денег и купонов на продукты, хлеб и муку. Но папа так люто загулял с ненцами по пути к озерам, что забыл обо всяком народе, да и о себе тоже. Олени вытащили из тундры нарты к станку Плахино. На нартах, завернутый в сокуй и медвежью полость, обнаружился папа, черный весь с перепоя, заросший диким волосом, с обмороженными ушами и носом. За нартой развевались разноцветные ленточки, деньги из мешка и карманов рыбного начальника сорились. Ребята давай забавляться ленточками, подбрасывать, рвать их, но прибежала мачеха, завыла, стала драть на себе волосы – ленточки те были продуктовыми талонами, деньги – зарплата рабочим-рыбакам.
Пропита половина. Чем покрывать? Папа пьяный-пьяный, но смикитил, на озера, в бригады ехать ему нельзя – разорвут голодные люди, под лед спустят и рыбам скормят. Вот и повернул оленей вспять. Но все равно хорохорился, изображая отчаянность, кричал сведенным стужей ртом: «Всем господам по сапогам!..», «Мореходов (начальник рыбозавода) друг мой верный! И мы с Мореходовым на ýрок положили…» Урками начальник рыбного участка называл бригадников, волохающих на тундряных озерах немысленно тяжелую работу – пешнями долбят двухметровый лед и, пока доберутся до воды, делают три уступа, майна скрывает человека с головой. И все же работают, не отступаются, добывают ценную рыбу – чира, пелядь, сига.
Видеть папину дурь, слушать его было на этот раз совсем неловко даже детям, все понимали, да и он тоже: несдобровать ему.
Судил начальника рыбного участка и бухгалтера выездной суд в клубе станка Плахино. Двадцать четыре года отвалили им на двоих за развеселую руководящую жизнь. После суда папу отправили этапом на строительство моста через Енисей – на Крайнем Севере возводилась железная дорога.
Строй заключенных спускался по игарскому берегу к баржам. Колька стоял в сторонке, дожидаясь отца, чтобы передать ему пачку махорки. Мачеха с ребятами, приехав следом за отцом в Игарку, поселилась у знакомых и заболела, свалилась от потрясения, головой стала маяться, совсем уж расшатанно потряхивала ею, судорожно дергалась худой, птичьей шеей. Задергаешься с пятью-то ребятами, без угла, без хлеба, без хозяина, какой он ни на есть. Осунувшийся лицом Колька отыскивал взглядом отца – понимал парнишка: мыкаться им, ох, мыкаться. Из-за слез не вдруг различил Колька отца в колонне. Зато Бойе сразу увидел его, возликовал, залаял, ринулся в строй, бросился отцу на грудь, лижет в лицо, за фуфайку домой тянет. Замешкался, сбился строй, и сразу клацнул затвор. Отец, сделавшийся смирненьким и виноватым, загородил собою Бойе.
– Это ж собака. В людских делах она не разбирается… – И, приметив плачущего Кольку, уронил взгляд в землю: – Стрелять не собаку, меня бы…
Колька с трудом оттащил Бойе в сторону. Кобель не понимал, что происходит и зачем уводят хозяина, завыл на всю пристань да как рванется! Уронил Кольку, не пускает хозяина на баржу, препятствует ходу.
Молодой чернявый конвоир приостановился, отбросил собаку пинком в сторону и, не снимая автомата с шеи, мимоходом, в упор прошил ее короткой очередью.
Бойе словно переломился в спине, стремительное его тело забилось передней половиной, заскребло, зацарапало лапами дорогу. От пыли собака сделалась серой. Заключенные старались не наступать на умирающего пса, перешагивали через него, смешали пятерки. Конвой заволновался, бегом погнал по трапу подконвойных в трюм баржи. Плакал отец, труся по трапу в гуще людей. Плакал Колька, пластом свалившись на Бойе.
Бойе еще поднял голову из торфяной пыли, размешанной ногами, отыскивая глазами хозяина, но увидел человека с коротеньким ружьем, обвел приметливым, быстрым взглядом мыс острова с бедной заполярной растительностью, неба серенького клок и стену лесов за Енисеем, всегда заманчивых, наполненных тишиной и тайнами, которые Бойе так любил и умел разгадывать. Родившийся для совместного труда и жизни с человеком, так и не поняв, за что его убили, пес проскулил сипло и, по-человечьи скорбно вздохнув, умер, ровно бы жалея иль осуждая кого.