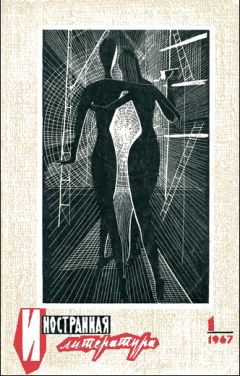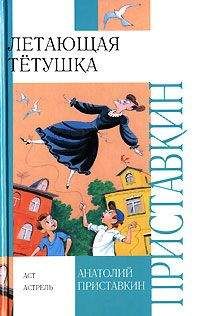гадать, но дело было не в дурных зубах. Начни я разбираться, то виной тому явно оказались бы сердечные дела. Недаром же луна хранит себя в первозданном виде, на память о прикосновениях дорогого ей существа.
Я помотал головой и тихо рассмеялся, рассудив, что внучке знать про то совершенно не к чему. Девочка она добрая, впечатлительная, и придётся мне звать доктора, который согласится полечить луну…
Следующий раз
Это было первое утро, когда вишню за окном оставило в покое непоседливое семейство соловьёв, что целое лето плело из её тонких веточек такие косы, которые ветру не всегда удавалось распутать, да расчесать даже к рассвету. Но, как известно, пустота ненасытна, и место соловьёв заняла синица. Солидно, обстоятельно и многозначительно облетела она сад, посидела на берегу пруда, оценивающе глянула на меня сквозь стекло, и даже, кажется, – надеюсь на то! – едва заметно кивнула.
Порешив не тревожить вишню, синица, прилично расставив ноги, присела на ветку шиповника. Небольшую же жёлтую сливу, которую принесла с собой, пристроила между занозистых плодов, дабы не свалилась на землю, и не пришлось её после вновь отмывать от песка.
Со стороны того было не понять, но синица была озадачена тем, что время, кой понукает всех само, принуждало совершить нечто, чего птице не хотелось совершенно. Ну, вот ни капельки!
Было довольно тепло, тем не менее, синица заметно зябла. Если пОверху ветерок ещё нежно ерошил мягкие пёрышки, обдувая их до кожи, то от земли, птица как раз расположилась на нижней ветке, уже порядком сквозило.
День, особенно ближе к его середине, покуда ещё был способен развеять любые сомнения относительно времени года, – было несомненное, безоговорочное лето, что вытапливало последние капли воли, оставляя одну лишь безмятежность и негу. Да и к чему та воля, коли вокруг тёплая тишь, вялые, томлёные солнечным жаром плоды или вовсе сбитые с толку насекомые, что едва ли не сами просятся в полуоткрытый из-за зноя рот.
Но, вернёмся к нашей птице. Синица по всю свою жизнь, с самого рождения, причисляла себя к доверенным иной стороны бытия, вестникам холода. И в её власти, так мнилось, было приблизить или отдалить его. Жёлтая слива, от которой теперь суеверная птица даже отстранилась слегка, была не столько пищей, но знаком, чертой, переступи её вдруг синица, и всё – конец лету. Дело в том, что этот фрукт был обитаем, с червячком, попросившимся у сливы на постой, а синица по всю осень и зиму держала пост, так что, выуди она из рыхлой мякоти жильца, это могло бы отсрочить пору листопада.
Неведомо, что намеревалась, в итоге выбрать синица, ибо вмешался поспевающий всюду ветер. Задев шиповник плечом, он обронил золотую, как осенний лист сливу прямо на дно пруда. Ну, как взметалась синица промежду тенью леса и солнцепёком полян, не зная, как быть: скажется ли нынче осень, даст о себе знать, либо расплатой за нерадение, пришлёт вместо себя зиму, с тем, чтобы после, со всем почтением, да в известный срок.
Участь той синицы казалась горька, в полном отчаянии она шептала, что не позволит себе больше никогда подобной промашки. И оно бы всё ничего, только вот в чём беда, – не для всякого случится он, следующий раз, да поделать с этим уж ничего было нельзя…
Уже и всего
Воскресенье. Выходной. Бабушка ждёт нас в гости.
– Что ж ты такой… – В сердцах говорит мать, встряхивая за плечи. – Придётся ехать назад.
И мы возвращаемся, в третий уже раз. Так-то мы почти что добрались до дома бабушки, но за квартал от него – неглубокий, узкий, во всю ширину тротуара, сток для воды, и у меня никак не получается преодолеть это препятствие. Всякий раз, когда заношу ногу, дабы переступить, у меня кружится голова, сандалии цепляются одна за другую, и я падаю. Конечно же, всё белое и праздничное, во что нарядила меня мать, пачкается, кое-что даже рвётся. И хотя до бабушки уже совсем ничего, мать тянет меня за собой, выдёргивая за руку, как удочкой рыбу из воды, на многолюдный берег трамвайной остановки.
Матери стыдно за меня, а мне всё равно, и нравится глазеть по сторонам. В вагоне она плавит меня своей плохо сокрытой ненавистью, а дома . понукая и командуя, моет, переодевает в чистое, чтобы через полчаса я снова не сумел справиться с собой.
Время близится к обеду. Красиво одетый народ несёт в авоськах из гастронома и булочной свой улов: румяный батон и рядом с куском сыру в серой бумаге, тает, расплываясь тёмным пятном по обёртке, кусок сливочного масла. На людях мать сдерживается, и от того чуть менее строга, но я всё равно боюсь проявлений её гнева, к тому же – очень хочу есть.
Мы приближаемся к злосчастной канаве. Она – словно змея на асфальте, – дремлет, чтобы в нужный момент попытаться ужалить меня, и я знаю, что опять не сумею справиться со страхом и упаду вновь.
В последний момент мать подхватывает меня на руки. Заметив, вероятно, как ватные от страха ноги скручиваются, подобно ниткам, на которые бабушка, когда шьёт, обыкновенно плюёт, чтобы половчее скрутить в узелок. Но я не чувствую, что спасён, ибо слышу тяжёлое дыхание матери и запах, в котором ничего родного, но одни лишь отдушки мыла, чистоты, порядка. И так хочется вырваться, но мать крепко прижимает меня к себе.
Куда как охотнее я бы обошёл это место по другой дороге, или даже заявился к бабушке таким, как есть: со сбитыми коленками, с одуванчиком в перепачканной руке. Бабуля не стала бы охать и негодовать, она б поняла, что это всё не из-за моей неуклюжести, но там, поперёк асфальта, нечто, что неспроста, не на шутку пугает меня, не даёт пройти. Да и не дело это – заставлять ребёнка переступать через… себя.
В ту пору мне было уже три, а матери – всего двадцать шесть. Такие вот дела…
Когда-нибудь
Шагая на рассвете по траве, мы будим утомлённых за ночь бабочек. Спросонья они взлетают невысоко, и кажется, словно гадает кто «на любовь», срывая ненужные уже лепестки с невзрачного цветка виданного не раз оттенка шамуа 52.
Полдень, посыпает тропинку кузнечиками, кидается ими, как рисом под ноги новобрачных.
И тотчас, будто ни с чего, в суете муравьёв под ногами находишь нечто общее со своею, столь необходимой и зряшной, в тот же час, да вспоминается слышанный некогда разговор, в коем один из голосов непременно твой:
– Давай, сходим?..
– Обязательно!
– А когда?!
– Как-нибудь потом…
«Когда-нибудь…» – это почти всегда означает только одно: никогда… Ведь, рано или поздно, все мы сходим с карусели земли, и надо успеть вдоволь насладиться