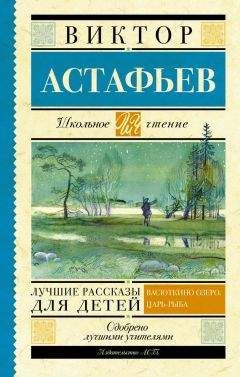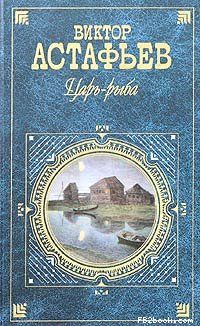И вот серой, звенящей комаром ночью я увидел в тайге мелькнувший свет и подумал, что это бред, галлюцинации, стал вслух себя уверять, что отблеск небесный, отражение звезды в воде. Но какие звезды в эту пору, давно уже размыло ночь густыми туманами, солнце полого зависало над пологой тайгой, не закатывалось.
Сначала я побежал, потом пополз и увидел наконец экономно горящий костерок, мягко ступая, я приблизился к огню и спрятался за дерево. Подле костра, на лапнике, тесно прижавшись друг к другу, спали двое. И первого взгляда хватило, чтоб убедиться, что это «наши». Меньше меня были они ободраны, но тоже обросли, одичали, комары над ними клубились. Каков же был я? Страшно было подумать. Я кашлянул и вновь спрятался за дерево. Оба норильца тотчас вскочили, один схватился за топор, лежавший меж беглецами, второй за самодельный ножик. Я коротко им объяснил, кто я таков и почему тут.
– Выдь на свет и остановись! – скомандовали мне и подшевелили огонь. Я вышел к костру и покорно остановился.
– Х-хо-о-оро-ош! – покачали головами незнакомцы и набросились на мой мешок. – Соль? Хлеб? Табак?
Вытряхнув содержимое мешка, они удрученно замерли. Потом завернули в листья моху, сухого моху с чебрецом, пососали цигарки, и тот, кто был тоньше, моложе, серый одеждой, волосами, лицом и глазами, устало полюбопытствовал:
– Давно блудишь?
Его и звали Серым. Страшный человек. Опытный бандит. Он много раз уходил из мест заключения. В апреле из штрафных бараков ушло трое. Так рано еще никто с нашей стройки не уходил. Рисковые ребята. Но третьего они, видать, уже потеряли. Что ж такого? Нас ведь тоже трое бежало.
Надо ли говорить, как я обрадовался людям, пусть эти люди были Серый и Шмырь, но все равно ведь люди, судьба соединила нас в бедствиях наших, скрепила жизнь побегом и тайной. Серый и Шмырь тоже заблудились. Но шли они упрямо, без колебаний по заполярной тайге, зная с уверенностью, что идут на юг и что поздно или рано выйдут на приток Енисея, а по нему и к самому батюшке Енисею, а там – люди, жизнь, есть где и у кого поживиться, кого пограбить, кого обобрать, вина добыть, с бабами побаловаться.
Но я поторопился радоваться – соединив нас в несчастье, судьба не сделала артельных людей сообщниками ни в мыслях, ни в устремлениях. Маленькая артель разделилась надвое – в меньшинстве, конечно же, остался я.
Когда Серый и Шмырь отдыхали, я ловил рыбу, малых бескрылых пташек, запасался корешками, травами, варил похлебку в котле, который у этой пары сохранился. Первое время мы ладили. Я уверовал, что с такими бойцами не пропаду и непременно выйду к Енисею, а там не с руки нам быть вместе. Но проходили дни, недели, мы никак не могли выпростаться из лесотундры. Совсем обносились, затощали. Давно была уже очищена от шерсти, выварена и съедена оленья шкура, мы ловили и ели леммингов, белок и даже бельчат, варили грибы – все без соли, без соли! Рты наши скипелись от крови, пахло из нутра нашего падалью. Гнус разъедал лица, руки, шеи до того, что оголилось мясо, пошли по нему язвы. На артель осталась одна удочка и жерлица с обломанным крючком. Теперь мы рыбачили попеременно. В то время, когда Серый и Шмырь спали, я ловил и варил рыбу, после спал я, они ловили и варили.
Но волчий закон, по которому существовали Серый и Шмырь, скоро дал себя знать – они перестали оставлять мне еду, однако еду добывать и дрова заготавливать заставляли безоговорочно. Сами понимаете, после нашей ударной стройки толковать с ними о совести и порядочности – пустая трата слов. Они были крепче меня, лучше сохранились, но я тоже не давал себе окончательно ослабиться, старался, когда связчики спят, найти хоть какое-то пропитание. Меня подстерегла еще одна большая беда – я оборвал последнюю удочку. Уснул с удочкой в руках, клюнула сорожина на короеда, тут же на нее метнулась щучина. Я проснулся от рывка, всполошился, но было уже поздно – хищница вдавливалась в глубину, разворачивала сорожину головою на ход, следом волочился обрывок фильдеперсовой лески, клубилась рыбья чешуя.
Собратья мои убили бы меня, но я сказал, что спрятал жерлицу и не покажу, где спрятал, коли они примутся меня убивать. Кроме того, у меня есть еще две иголки, из которых можно сделать крючки, да из штопора-складника, если его накалить, уду можно загнуть, и еще я придумаю, как ловить петлями птицу и щук, нежащихся на отмели.
Этим я на какое-то время продлил себе жизнь. Но страшное слово «баран» все чаще и чаще достигало моего сознания, хотя поверить в то, что Серый и Шмырь ведут меня с собой, чтобы, когда вовсе край придет, съесть меня, поверить не мог. Сыспотиха подбирался к связчикам, пытая, куда делся третий их спутник по прозвищу Ноздря. Серый и Шмырь уверяли меня, что, как и мои спутники, утонул он при переправе через реку, но скоро посчитали – таиться им незачем и врать не стоит, никуда я от них не денусь, рассказали, как тащили спички, одна короткая, две длинных. Короткую вынул Ноздря. Он был вечный зэк, опытный ходок, старый вор в законе, игру судьбы принял, как полагается герою современности, не скиксовал, не пикал. Наставил в грудь себе ножик, навалился на него, попросив давнуть в спину. Серый помог ему, облегчил кончину.
Связчики разделали «барана» топором, мясо закоптили на огне и продержались до прилета в тундру птиц. По насту из тундры им выйти не удалось. Поломали лыжи, съели припасы. Дальше предстояли им одна только длинная и одна только короткая палочка – спичками уже не играли, берегли их пуще глаза.
И тут-то явился я. Сам набрел – воистину баран! Безрогий, безмозглый, на заклание чертом посланный.
Однажды ночью Серый и Шмырь вернулись к огню ни с чем. Рыбу и птицу петлей ловить они не навострились, нервов не хватало, привыкли все брать на шарап. Ягоды еще не созрели, орех был с молоком, птица поднималась на крыло. Питаться в тайге сделалось нечем.
Серый и Шмырь упали возле огня обессиленные. «Ну?» – закрыв глаза, молвил Шмырь. Я понял, что это «ну» означает; не таясь начал молиться. «Ладно, поспим. Может, морок какой найдет. Видеть эту падлу не могу! Весь в парше!..» – «Опа-алим!» – «Тьфу! – плюнул Серый, – падаль хавать легче!..» – «У нас и падали нету. Сами скоро падалью сделаемся…» – «Кончай! Покуда не отбросил копыта, дотуда жив! Дави бабу-землю. Спи. Отдохнем – поработаем…»
Серый костью послабее Шмыря, но духом покрепче. Шмырь – он злобой страшен, однако смекалкой не вышел.
Я дождался, когда приутих костер, пока разоспались мои спутники, и, сказав про себя: «Господь вас прости, ребята!» – отполз от огня, вскочил – где и силы еще взялись и бросился бежать. Помнится, я даже кричал, мнилась мне за спиной погоня. Помню, когда забежал в густой туман, обрадоваться даже не мог, упал без сил.
Солнце было уже высоко, когда я очнулся и увидел, что из тумана выпрастывается большая, широкая вода. По песчаному берегу прополз к тихой лагуне, заглянул в воду и отшатнулся: на меня из воды воспаленными, опухшими глазами глядело существо, уже мало похожее на человека.
По большой воде дул ветер, кружились чайки, стаи молодых уток делали разминки, что-то перемещалось – за пологим горизонтом что-то дымило.
«Не Енисей ли это?»
Я сомлел, погрелся под солнцем, отдыхая от тяжкого гнуса, и скоро опять уснул. Очнулся от того, что меня било и катало по опечку волнами. Соскочил и увидел над водой, в разъеме берегов, темный силуэт. Ничего не мог сообразить, но уже отчетливая мысль бежала, хлестала волной в меня: «Я вышел к Енисею! Я вышел к Енисею! По Енисею идет пароход!..»
Вера в чудо во мне давно истребилась, и пока я не прочел на борту новенького теплохода: «И. В. Сталин», старался не доверять своим глазам. На теплоходе пассажиры, женщины, детишки – кто-то помахал мне рукой. А я не мог помахать в ответ. Мокрый от волн и слез, я стоял на коленях в мокром песке, кланялся, молился земле, благодарил бога за чудо, подаренное мне, – чудо жизни! И верил, в ту минуту верил, что те, на теплоходе, – очень счастливые люди, мне же выпало тяжкое испытание, по чьей-то злой воле, по какому-то недоразумению. Я должен, должен, должен дойти до самого главного, самого справедливого человека, чьим именем совершенно справедливо назван этот красивый теплоход. Он выслушает, он поймет меня, он сам в этих краях бедовал в ссылке, сам бежал отсюда и всего натерпелся. Он, и только он, может и должен всех спасти, развеять тяжкую напасть на эту страну, на ее исстрадавшийся народ.
Сидя у почти затухшей печки, гость наш умолк, держа эмалированную кружку в пригоршнях. Через окошечко в избушку сочился нехотя свет нарождающегося застиранного дня. Беглец глянул на окошечко и, допивая из кружки остатки теплого чая, заторопился:
– Ну, что вам еще к рассказанному добавить? Серый и Шмырь следом за мной тоже вышли к Енисею, выше меня по течению. Я скоро обнаружил их «следы» – разграбленный чум кето, выехавших на лето рыбачить, за чумом перестрелянные собаки, изнасилованная, растерзанная женщина. Самого рыбака эти два шакала, очевидно, утопили в реке, парнишку-кето посадили в лодку и оттолкнули от берега – его поймала и спасла команда буксирного парохода. В чуме беглые разжились едой, солью, одеждой. Впрочем, какая одежда у рыбаков-националов, на месяц-два откочевавших из тундры к Енисею. Взяли ружье, то самое, которым вас застращали. К ружью скорее всего уже нет зарядов, и все же хорошо, что вы не связались бороться с ними, – они могли бы запереть вас в избушке и сжечь. Они на «свободе», они добрались до жилых мест и «гуляют». Будут они ходить, огибая большие станки, города, грабить и насильничать до холодов, потом сдадутся. Никакой цели и задачи у них нету. Я шел по их следам. Открыто заходил в станки. Два раза меня задерживали и отдавали в сельсоветы. Оба раза отпускали. Я не ворую, не граблю и намерений своих не скрываю. Меня отпускали с богом, и я уверен, пройду дальше, чем Серый и Шмырь. Мною движет милость. Я дойду до Москвы, чего бы мне это ни стоило. Память товарищей, страдания людей обязывают меня выполнить долг, может быть, последний и самый главный в моей жизни… Дайте, пожалуйста, еще сольцы!