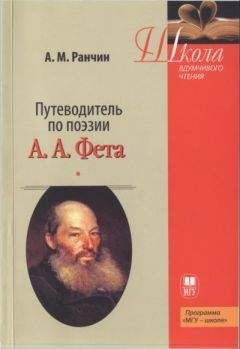Сопоставление текстов двух редакций
И. С. Тургенев, редактировавший сборник Фета 1856 г., ставил себе в заслугу редактирование стихотворений, о чем прямо заявил в предисловии: «Собрание стихотворений, предлагаемое читателю, составилось вследствие строгого выбора между произведениями, уже изданными автором. Многие из них подверглись поправкам и сокращениям; некоторые, новые, прибавлены. Автор надеется, что в теперешнем своем виде они более прежнего достойны благосклонного внимания публики и беспристрастной критической оценки» [Фет 2002, т. 1, с. 184].
Правка фетовских стихотворений, осуществленная по настоянию И. С. Тургенева и по его непосредственным указаниям, обычно оценивается исследователями как неосновательная — рационалистическая, игнорирующая своеобразие фетовской поэтики[24]. По замечанию В. М. Жирмунского, «принцип тургеневских исправлений ясен из сохранившегося экземпляра издания 1850 года, на котором имеются пометки Тургенева (экземпляр, по которому Фет исправлял их). Эти заметки Тургенева на полях в большинстве случаев гласят: „непонятно“, „неясно“ и т. п. Тургенев требовал от Фета логической ясности, рациональности, грамматической точности и правильности <…>» [Жирмунский 1996, с. 52]. Э. Кленин отмечает, что И. С. Тургеневу «нравились у Фета картины внешнего, объективного мира, и его раздражало у Фета изображение душевных состояний, зыбких и мимолетных, — то, что потом стало считаться главным вкладом Фета в русскую поэзию» [Кленин 1997, с. 44].
В случае со стихотворением «Шепот, робкое дыханье…» это, безусловно, не так: исправления обогатили и, если угодно, «улучшили» текст. В отличие от первоначального метафорического выражения шепот сердца, открывавшего стихотворение, предметное слово шепот в новой редакции сразу вводило звуковой ряд шепот — дыханье — трели соловья, который затем сменялся цветовым и световым (лунный свет — тени — рассвет), и наконец, звуковой и цвето- и световой ряды сливались воедино в последней строфе: «лобзания» — поцелуи, которые можно увидеть, но возможно и услышать их звук; «слезы», которые можно увидеть, но, может быть, и услышать звуки радостного плача; завершается стихотворение вскриком-восклицанием, указывающим на свет и цвет: «И заря, заря!..».
Словосочетание уст дыханье ранней редакции стилистически неудачно, так как представляет собой пример ненужного повтора одного и того же значения в обоих словах: и так понятно, что дыханье исходит из уст (изо рта). Кроме того, уточнение уст лишало слово дыханье метафорических оттенков значения («робкое дыханье» принадлежит влюбленной девушке, но ассоциируется и с тихой ночной жизнью, «дыханьем» природы вокруг). Эпитет робкое, найденный во второй редакции, придает особенную выразительность образу влюбленной и ее душевному состоянию, исполненному и стыдливости, и радостного ожидания, и страха[25].
Стих «Бледный блеск и пурпур розы» ранней редакции «проигрывает» более позднему варианту «В дымных тучках пурпур розы»: в первоначальном варианте происходит манерное нагнетание цветовых образов: за одним (указывающим на лунный свет) следует сразу другой — метафора (обозначающая рассветную зарю). Луна и рассвет в этой строке даны вместе, объединены во времени, из-за чего изображение ночного свидания лишено той динамичности, которая есть в редакции 1856 г. (переход от ночи к утру). Уточнение «в дымных тучках» («В дымных тучках пурпур розы»), появившееся в редакции 1856 г., придает картине пробивающейся зари более отчетливую изобразительность[26]. Строка «Речь — не говоря», выражающая излюбленный фетовский мотив безмолвной речи и невозможности запечатлеть тонкие и глубокие чувства в словах, повторяет смысл, уже выраженный в первой строке («шепот сердца») и нарушает динамику картины свидания[27].
Что касается варианта рукописной редакции «мрак ночной» вместо «свет ночной» обеих печатных редакций, то в нем нет замечательного оксюморона: «мрак ночной» — банальность, обыкновенное словосочетание; «свет ночной» — словосочетание, элементы которого наделены противоположными смыслами. Так как «свет ночной» — это лунный свет, понятно, почему оказываются видны и «тени, тени без конца»; в мраке же теней быть не может.
Место в структуре прижизненных сборников
При издании в сборнике 1856 г. стихотворение было помещено в состав цикла «Вечера и ночи», в составе этого же цикла опубликовано в сборнике 1863 г. (см.: [Фет 2002, т. 1, с. 198, 265]; состав цикла в обоих изданиях: [Фет 2002, т. 1, с. 196–199, 263–266]). В плане издания 1892 г. стихотворение было помещено Фетом в состав цикла «Вечера и ночи». Благодаря этому стихотворение вступает в поэтический диалог с другими текстами цикла — как пейзажными и пейзажно-философскими, так и любовными. Оно занимает примерно срединное положение (шестнадцатое из двадцати пяти стихотворений цикла) и объединяет две основные темы «Вечеров и ночей» — любовь и природу (см.: [Фет 1959, с. 203–216]).
Возможная автобиографическая основа
По мнению Д. Д. Благого, в стихотворении отражена любовь поэта и Марии Лазич [Благой 1979, с. 506]. Фет познакомился с ней во время своей службы в кирасирском армейском полку, расквартированном в Херсонской губернии. Мария Козьминична Лазич, дочь отставного генерала и небогатого помещика, «была серьезная, сдержанная, прекрасно образованная девушка, отличная музыкантша, ценительница поэзии. Она увлекалась стихами Фета и безоглядно влюбилась в их автора. Любовь встретила взаимность, но не принесла счастья» [Бухштаб 1974, с. 28].
Фет признавался своему другу И. П. Борисову: «Я <…> встретил существо, которое люблю — и, что еще, глубоко уважаю. <…> Но у ней нет ничего и у меня ничего — вот тема, которую я развиваю и вследствие которой я ни с места <…>» (письмо от 9 марта 1849 г.; цит. по кн.: [Бухштаб 1974, с. 28]; ср. письмо от 18 мая того же года [Фет 1982, т. 2, с. 195–196]).
1 июля 1850 г. Фет сообщал И.П Борисову: «Я не женюсь на Лазич, и она это знает, а между тем умоляет не прерывать наших отношений <…>…Этот несчастный гордиев узел любви или как хочешь назови, который чем более распутываю, все туже затягиваю, а разрубить мечом не имею духу и сил» [Письма Фета Борисову 1922, с. 220].
Через несколько месяцев, по-видимому, в конце сентября — начале октября 1850 г., Фет извещает друга о близящемся расставании с Марией Лазич: «Давно подозревал я в себе равнодушие, а недавно чуть ли не убедился, что я более чем равнодушен. <…> Расчету нет, любви нет, и благородства делать несчастье того и другой я особенного не вижу» (цит. по кн.: [Бухштаб 1974, с. 29]). Возможно, это признание было попыткой оправдания задуманного расставания и самооправдания также.
Вскоре после расставания с поэтом Мария Лазич умерла от ожогов: от неосторожно брошенной спички на ней загорелось платье. Смерть была мучительной. Она прожила четверо суток, спрашивая, можно ли на кресте страдать больше[28]. Осталось неизвестным, была ли это страшная случайность или скрытое самоубийство.
Чувство вины перед тенью Марии Лазич угнетало Фета всю позднейшую жизнь, и оно отражено в стихах. Какие из любовных стихотворений навеяны отношениями с ней, какие являются воспоминаниями о ней, остается предметом исследовательских споров[29]. Фет старательно изгонял из своих стихотворений явные, прозрачные автобиографические свидетельства. «Конкретные биографические и психологические детали, попадая в художественный мир, подчиняются его логике, приобретая динамически-вневременной характер» [Сухих 2001, с. 55].
Композиция. Мотивная структура
Блестящий анализ построения стихотворения принадлежит М. Л. Гаспарову. Поэтому приведу из него пространные цитаты.
Композиция пространства, движение точки зрения в пространстве, смена планов подчинены художественной логике «расширений и сужений нашего поля зрения»: «Первая строфа — перед нами расширение: сперва „шопот“ и „дыханье“, то есть что-то слышимое и видимое совсем рядом; потом — „соловей“ и „ручей“, то есть что-то слышимое и видимое с некоторого отдаления. Иными словами, сперва в нашем поле зрения (точнее, в поле слуха) только герои, затем — ближнее их окружение. Вторая строфа — перед нами сужение: сперва „свет“, „тени“, „тени без конца“, то есть что-то внешнее, световая атмосфера ночи; потом — „милое лицо“, на котором отражается эта смена света и теней, то есть взгляд переводится с дальнего на ближнее. Иными словами, сперва перед нами окружение, затем — только героиня. И наконец, третья строфа — перед нами сперва сужение, потом расширение: „в дымных тучках пурпур розы“ — это, по-видимому, рассветающее небо, „отблеск янтаря“ — отражение его в ручье (?)[30], в поле зрения широкий мир (даже более широкий, чем тот, который охватывался „соловьем“ и „ручьем“); „и лобзания, и слезы“ — в поле зрения опять только герои; „и заря, заря!“ — опять широкий мир, на этот раз — самый широкий, охватывающий разом и зарю в небе, и зарю в ручье[31] (и зарю в душе? <…>)» [Гаспаров 1995, с. 145].