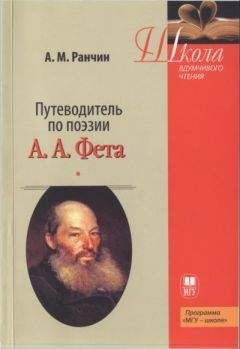Другой композиционный принцип — «смена чувственного заполнения этого расширяющегося и сужающегося поля зрения. Мы увидим, что здесь последовательность гораздо более прямая: от звука — к свету и затем — к цвету. Первая строфа: в начале перед нами звук (сперва членораздельный „шопот“, потом нечленораздельно-зыбкое „дыханье“), в конце — свет (сперва отчетливое „серебро“, потом неотчетливо-зыбкое „колыханье“). Вторая строфа: в начале перед нами „свет“ и „тени“, в конце — „измененья“ (оба конца строф подчеркивают движение, зыбкость). Третья строфа: „дымные тучки“, „пурпур розы“, „отблеск янтаря“ — от дымчатого цвета к розовому и затем к янтарному, цвет становится все ярче, все насыщенней, все менее зыбок: мотива колебания, переменчивости здесь нет, наоборот, повторение слова „заря“ подчеркивает, пожалуй, твердость и уверенность. Так в ритмически расширяющихся и сужающихся границах стихотворного пространства сменяют друг друга все более ощутимые — неуверенный звук, неуверенный свет и уверенный цвет» [Гаспаров 1995, с. 145–146].
Третий принцип — движение чувства, смена «эмоционального насыщения» этого пространства: «<…> Здесь последовательность еще более прямая: от эмоции наблюдаемой — к эмоции, пассивно переживаемой, — и к эмоции, активно проявляемой. В первой строфе дыханье — „робкое“: это эмоция, но эмоция героини, герой ее отмечает, но не переживает сам. Во второй строфе лицо — „милое“, а изменения его — „волшебные“: это собственная эмоция героя, являющаяся при взгляде на героиню. В третьей строфе „лобзания и слезы“ — это уже не взгляд, а действие, и в действии этом чувства любовников, до сих пор представленные лишь порознь, сливаются. (В ранней редакции первая строка читалась „Шопот сердца, уст дыханье…“ — очевидно, „шопот сердца“ могло быть сказано скорее о себе, чем о подруге, так что там еще отчетливее первая строфа говорила о герое, вторая — о героине, а третья — о них вместе.) От слышимого и зримого к действенному, от прилагательных к существительным — так выражается в стихотворении нарастающая полнота страсти. <…>
Здесь <…> эти две линии („что мы видим?“ и „что мы чувствуем?“) переплетаются, чередуются. Первая строфа кончается образом зримого мира („серебро ручья“), вторая строфа — образом эмоционального мира („милое лицо“), третья строфа — неожиданным и ярким синтезом: слова „заря, заря!“ в их концовочной позиции осмысляются одновременно и в прямом значении („заря утра!“), и в метафорическом („заря любви!“). Вот это чередование двух образных рядов и находит себе соответствие в ритме расширений и сужений лирического пространства» [Гаспаров 1995, с. 146].
Вывод исследователя: «Итак, основная композиционная схема нашего стихотворения — 1-1-2: первые две строфы — движение, третья — противодвижение» [Гаспаров 1995, с. 146].
Несколько иначе описывает композицию и мотивную структуру фетовского текста А. Б. Муратов: в стихотворении тематическое кольцо «природа», образуемое строками 2–6, обрамлено внешним тематическим кольцом «любовь», которое составляют строки 1 и 7–8; концовка же — «апофеоз любви, прекрасной как рождающийся день» [Муратов 1985, с. 166].
По мнению О. Н. Гринбаума, первые две строчки содержат смысл ‘звук’, следующие четыре — ‘цвет’, строчки 7–8 — ‘состояние’; впрочем, сразу же делается оговорка: «И лобзания, и слезы» — обозначают и ‘состояние’, и ‘звук’ [Гринбаум 2001].
Л. М. Лотман отметила, что кинетичность, движение изображаемых объектов для Фета важнее их зрительной ощутимости, пластичности [Лотман 1982, с. 434]. Стихотворение «Шепот, робкое дыханье…» — один из наиболее выразительных примеров, подтверждающих это наблюдение. Слуховое восприятие мира (акустический код: «шепот», чуть слышное «дыханье», «трели соловья») сменяется зрительным, визуальным («серебро <…> сонного ручья», «свет ночной, ночные тени», «ряд волшебных изменений милого лица», «пурпур розы», «отблеск янтаря», «и заря, заря»)[32]. Смысл ‘состояние’ появляется не в седьмой и восьмой строках, а с самого начала: эпитет «робкое» указывает на волнение героини, метафорический эпитет «сонный», отнесенный к ручью, говорит о «дремоте» природы, противопоставленной в этом отношении (и только единожды!) влюбленным. «Изменения» «милого лица» могут быть поняты и как следствие игры лунного света и ночных теней, и как выражение душевных движений: смыслы ‘зримое’ и ‘душевное состояние’ неразрывно слиты[33].
Движение времени в стихотворении — от ночи к утру, обозначенному зарей (план природный), и соответственно от объяснения («шепота») к поцелуям («лобзаниям»). Нарастанию цвета и света (лунный свет — пробивающееся сквозь «дымные тучки» солнце — заря) соответствует нарастание любовной эмоции. Два плана неразрывно переплетены[34].
По словам И. Н. Сухих, «на самом деле эти двенадцать стихов без единого глагола внутренне упорядочены и полны движения. В стихотворении две повествовательные перспективы, два сюжета: природный и человеческий. Каждая строфа при этом строится на смене кадров в обоих сюжетах: сначала вечер, пенье соловья, потом — ночь, потом — рассвет, утренняя заря; сначала шепот, потом — ночные разговоры, наконец — утреннее расставание и прощальные поцелуи. Не о статичности, а о стремительном, калейдоскопическом движении времени и развитии чувства можно говорить в данном случае» [Сухих, 2001, с. 49][35].
Но движение это едва ли стремительное: и эпитет «сонный» (о ручье), и именование ночных теней «бесконечными» подчеркивают скорее неторопливость движения (в том числе и движения времени). Спорна и трактовка «лобзаний» как «прощальных». Поцелуи влюбленных, даже если и могут быть поняты как «прощальные» фактически (перед расставанием), знаменуют всплеск, взрыв чувства: это кульминация, а не развязка.
Для Фета непосредственное воссоздание жизни в поэзии было безусловно выше и ценнее «идейного» искусства. Он доказывал поэту Я. П. Полонскому: «Философия целый век бьется, напрасно отыскивая смысл жизни, но его — тю-тю; а поэзия есть воспроизведение жизни, потому художественное произведение, в котором есть смысл, для меня не существует» (письмо от 23 января 1888 года [Фет 1988, с. 352])[36].
Близкий знакомый Фета литературный критик Н. Н. Страхов так определял дар поэта: «Он певец и выразитель отдельно взятых настроений души или даже минутных, быстро проходящих впечатлений. Он не излагает нам какого-нибудь чувства в его различных фазисах, не изображает какой-нибудь страсти с ее определившимися формами в полноте ее развития; он улавливает только один момент чувства или страсти, он весь в настоящем <…>» (Заметки о Фете Н. Н. Страхова. II. Юбилей поэзии Фета; [Страхов 2000, с. 424]). Сказанное Н. Н. Страховым в полной мере относится к стихотворению «Шепот, робкое дыханье…».
Не описание ночного свидания, а отдельные штрихи, детали, не высказывание чувства, а намеки на него — такова поэтическая установка Фета. Художественный мир «Шепота, робкого дыханья…» — мир не вещей и ситуации, а картина эмоциональных впечатлений. Как Фет утверждал, «для художника впечатление, вызвавшее произведение, дороже самой веши, вызвавшей это впечатление» (письмо К. Р. от 12 июня 1890 г., цит. по: [Бухштаб 1959, с. 57]).
Подтекст — невысказанное, но данное лишь намеком — в поэзии Фета не менее важен, чем сказанное прямо; читатель должен воссоздать эмоции, питающие текст. Не случайно поэт писал: «Лирическое стихотворение подобно розовому шипку: чем туже свернуто, тем больше носит в себе красоты и аромата» (письмо К. Р. от 27 декабря 1886 г. [Фет и К. Р. 1999, с. 246]).
«Новизна изображения явлений природы у Фета связана с уклоном к импрессионизму. Этот уклон впервые в русской поэзии определенно проявился у Фета. <…> Его интересует не столько предмет, сколько впечатление, произведенное предметом» [Бухштаб 1974, с. 99—100][37].
Тонкое «зрение», «зоркость» — способность разглядеть поэтическое в жизни Фет считал необходимым свойством поэта: «…Поэтическая деятельность, очевидно, слагается из двух элементов: объективного, представляемого миром внешним, и субъективного, зоркости поэта — этого шестого чувства, не зависящего ни от каких других качеств художника. Можно обладать всеми качествами известного поэта и не иметь его зоркости, чутья, а следовательно, и не быть поэтом» (статья «О стихотворениях Ф. Тютчева», 1859 [Фет 1988, с. 283]).
Сами по себе образы, представленные в фетовском стихотворении, банальны; они обветшали уже задолго до создания этого произведения. Вот они.
СОЛОВЕЙ[38], ТРЕЛИ СОЛОВЬЯ
Уже у А. С. Пушкина в седьмой главе «Евгения Онегина» (строфа 1) пение соловья — трафаретная, абсолютно ожидаемая примета весны: «соловей / Уж пел в безмолвии ночей» [Пушкин 1937–1959, т. 6, с. 139][39].