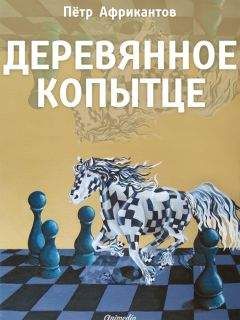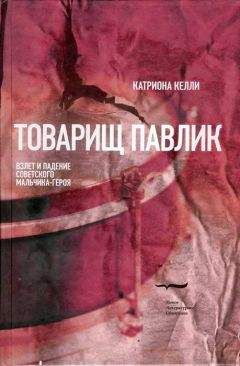Пётр Африкантов
Деревянное копытце (повесть-сказка)
На каникулы Павлика обычно отправляли к дедушке. Эх, и раздолье же было в деревне! Но особенно нравилось мальчику играть за столярной мастерской деда. Сядет он там под навесом на штабеле аккуратно сложенных брёвен и представляет себя то отважным разведчиком, то путешественником, с которым обязательно приключаются всякие необыкновенные истории.
Дикие вишни и терн, густо разросшиеся вокруг, были единственными хранителями его тайн. Отсюда Павлик совершал походы по многочисленным, заросшим бересклетом, шиповником и полынью оврагам и заброшенным старым садам, пугая неожиданным появлением стрекоз, ящериц и других обитателей этих укромных мест.
– Ша-шки-и к бою-ю! – кричал он, завидев притаившуюся в кустах крапиву, и, вытащив из ножен сделанную дедушкой деревянную саблю, смело рубил коварную траву. Из таких сражений он всегда выходил победителем. Случалось, что в пылу схватки отдельные стебли больно обжигали ноги и Павлик, потирая ожоги, спускался на дно оврага, где бежал холодный ручей. Там к обожженным местам он прикладывал прохладные листья мать-и-мачехи и ждал, когда утихнет зуд и жжение.
Но больше всего мальчик любил сидеть у дедушки в мастерской и смотреть, как ловкие жилистые руки деда выделывают чудеса из тех самых брёвен, что сложены под навесом. Забежит Павлик в мастерскую, сядет где-нибудь в уголке и молчит. Обычно молчит и дедушка, но иногда вдруг заговорит тихонько, посвящая внука в разные премудрости своего ремесла.
– Дерево слушать надо, – говорил он хрипловатым голосом, – потому как оно тоже язык имеет, только язык свой, особенный. Его понимать надо.
Очень любил Павлик своего деда, да и у всех мальчишек в деревне дедушка Захар пользовался особым уважением. Он мог каждому по свистку сделать или по луку со стрелами. А по весне смастерил маленькую водяную меленку, установил на ручье – так не только малыши, но и взрослые пришли посмотреть, как крутится водяное, с красными лопастями колесо, а бородатый игрушечный мельник поднимает и опускает устроенную в плотине задвижку, спускает скапливающуюся в запруде воду, чтобы не полилась через верх.
Делал дед Захар и другие штуковины. Смастерил, например, загадочных деревянных молотобойцев, попеременно тюкающих миниатюрными молотами по деревянной наковаленке или дерущихся деревянных петушков.
«Конечно, дедушка всё умеет, – думал Павлик, – но чтобы язык дерева знать – враки». Он учился в школе и знал, что никакого деревянного языка нет и быть не может. Насчет того, что дерево живое, тоже сомневался: когда оно с листьями, когда растёт и ветви его колышутся – может и живое, а так – спиленное да сухое… здесь и разговоров не может быть.
– А что, деда, бревно разве тоже живое? – спрашивал Павлик, сомневаясь в дедушкиных словах.
– Конечно, живое, обязательно живое, – серьёзно повторял дед и добавлял, улыбаясь, – только слышать его голос и понимать не каждому дано…
В такие минуты Павлик верил и не верил деду, смекая про себя: а уж не разыгрывает ли он его как бывало, принимая за маленького? Кто-кто, а уж он-то знал, как шутит дедушка. Пошутит, потом смеётся:
– Ну что, поверил? Вот как я тебя: раз – и вокруг пальца, впредь наука, рот не разевай, держи ухо востро, всё на веру не бери, вера хорошо, а знать не мешает, на то тебе и голова дана, семь раз проверь, а потом верь.
– Да я думал… – начинал оправдываться Павлик.
– Индюк думал – да в суп попал. Потому его думам и цена – грош, – говорил дедушка.
Павлик на дедушку всё равно не обижался. Было, правда, иногда очень досадно, но не за шутки и розыгрыши, а за свою непонятливость.
– А ты, внучек, слушай, да на ус мотай, – продолжал дедушка.
На ус Павлик ничего ещё мотать не умел, да и усов у него не было, но старался запомнить каждое слово.
Когда ему надоедало сидеть в мастерской, он шёл к другу Генке Зюзюкину. Хотя они были и одногодки, но Павлику всегда казалось, что Генка намного старше его, может быть, даже на целый год или два. Он умел запрягать лошадь, ездить верхом, не боялся мазавинского петуха и вообще был более сообразительный и бесстрашный. К тому же у его отца был мотоцикл, и Генка время от времени лихо катил на нём по деревенской улице, а когда не видел отец, сажал на заднее сиденье и Павлика.
В хорошую погоду они чаще всего занимались ловлей гольцов в овражных омутах или карасей на колхозном пруду. Когда же надоедало и то и другое, то шли на полевой стан, в надежде, что Генкин отец – дядя Миша – прокатит их на своём голубеньком «Беларусе». Когда тот работал на ближних полях – обязательно брал их в кабину. Если работа была несложная, то он давал обоим немного порулить.
И здесь у Генки получалось лучше. Руль у него в руках не прыгал, трактор не рыскал из стороны в сторону, как у Павлика. После таких проб Генка утешал друга:
– Ладно, чего там, дернул разок, бывает.
И обычно рассказывал какую-нибудь смешную историю, подчас тут же им и придуманную. А если Павлик не верил в то, что сочинил друг, Генка говорил: «Ладно, больше не буду» – и тут же рассказывал что-нибудь более фантастическое и уверял, что это правда.
В ненастные же дни они обычно сидели дома и играли в шахматы или в морской бой. Сначала играли в шахматы, где Генка обычно выигрывал, а потом в морской бой, где больше везло Павлику. Сам Павлик считал, что в морской бой он выигрывает потому, что здесь Генка не мог мухлевать. Друг он, конечно, был хороший, но вот чтобы не передвинуть незаметно пешку на другое поле или твою отодвинуть, без этого никак не мог. Иногда Павлик ловил его с поличным, и тогда вспыхивал спор. На шум приходила бабушка. В ненастные дни она не возилась, как обычно, на огороде, а сидела за прялкой. Заслышав спор, она молча поднималась и убирала шахматы на шкаф. На этом спор заканчивался.
Если же дома был дедушка, он внимательно выслушивал того и другого, давал советы, как лучше сидеть за шахматной доской, как передвигать фигуры, чтобы у соперника не возникло подозрения в твоей нечестности.
– Взялся – ходи, – говорил он, – желаешь поправить фигуры, говори: «Поправляю».
Шахматы, в которые играли Павлик с Генкой, были старые. Из всех фигур Павлик особенно не любил облупленного, с отколотым ухом чёрного белопольного коня. Тот всегда, когда Павлик играл белыми, устраивал его фигурам вилки. То есть занимал на доске такое положение, откуда грозил убить две фигуры белых. Убивал, как правило, одну наиболее важную и часто оставался безнаказанным.
– Вот если бы не было этого корноухого коня, я бы у тебя обязательно выиграл, – говорил он обиженно.
– А у тебя что, коня нет? – парировал друг.
– Мой конь честнее твоего и не такой наглый. Он добрый.
– Ещё кому не скажи, куры засмеют. Шахматы есть шахматы.
Так обычно заканчивалась каждая игра. После поражения Павлик начинал думать, что вот бы хорошо знать какое-нибудь волшебное слово или шахматную тайну, чтоб Генку обыграть.
Дни летели за днями. И вот однажды сидел Павлик на своем излюбленном месте за мастерской, на небольшом брёвнышке, и смотрел, как похожие на чёрные стрелы стрижи ловят мошек. Ему было скучно: дедушка делал какую-то срочную работу, Генка тоже куда-то с утра исчез и не появлялся, бабушка вязала. Ловить рыбу Павлику не хотелось, да и какой клёв в такую жару.
От нечего делать он взял перочинный ножичек и стал вырезать на бревне свое имя. Бревно было мягкое, и лезвие без больших усилий входило в древесину. Павлик вырезал уже вторую букву, как вдруг ему показалось, что бревно под ним зашевелилось. Однако Павлик не придал этому никакого значения – мало ли что может показаться, тем более что бревно лежит не одно, а в ярусе – возможно, оно действительно сместилось.
Павлик уселся поудобнее и принялся за следующую букву. Только он вогнал лезвие в древесину, как раздался треск, и Павлик, слетев с бревна, упал в крапиву, а бревно откатилось в сторону.
Испуганный и обожжённый, Павлик с громким плачем выскочил из зарослей крапивы. Когда прошёл первый испуг и он немного успокоился, ему пришла в голову страшная мысль: «А вдруг это бревно, по которому ползёт божья коровка и бегают длинноногие паучки, действительно живое?» Ведь когда он смирно сидел – оно совсем не шевелилось, но как только стал тыкать в него ножичком – оно ожило.
Павлик осторожно подошёл к бревну и стал его внимательно разглядывать. Сук, торчащий неподалёку от торца, напоминал нос, а срубленные по бокам бревна сучки – глаза. Он попытался определить возраст дерева по годовым кольцам, как его учил дедушка, но торец бревна до того посерел от времени, что по нему теперь вряд ли что можно было определить. Тогда Павлик решил спилить краешек бревна и по чистой древесине определить его возраст, но тут же со страхом отверг это решение.