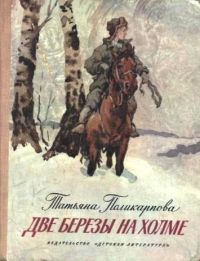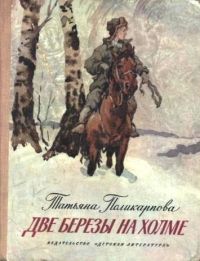- Ну, кончен бал! - сказала бабушка. Взяв из моих рук кочергу, она сгребла все угли в кучу, чуть прикрыла трубу - подвинула заслонку - и велела нам с Толиком закрыть дверцу, чтоб угар не нашел. - Вот совсем побелеют угли, перестанут по ним бегать огоньки, тогда и трубу закроем, - объяснила бабушка.
Но Толик не хотел уходить от печки.
- Пусть огонек смотрит в маленькое окошко, - просил он меня. И я чуть-чуть - узкой щелкой - приоткрыла дверцу.
Брат сидел, доверчиво прижавшись к моему боку головенкой, и я видела сверху сквозь его легкие белые волосики розово просвечивающую кожу, круглую, блестящую, как яблоко, щеку, разогретую печным жаром, маленький носишко и опущенное над щекой темное крылышко длинных ресниц.
«Ах ты мой братик, братец ты мой кролик! - говорила я про себя. - Наверное, тоже без меня скучает. Хоть и ходит в детский сад».
И подумала я со стыдом, что совсем мало играла раньше со своим братиком, почти ведь и не знаю его. О чем он думает? Вот огонь ему нравится. Смотрит пристально на огненную щелку.
- Мы завтра с тобой гулять пойдем, да? - спросила я брата.
- Ты же по-татарски не понимаешь, - сурово ответил он мне, - как ты будешь с нами гулять?
Бабушка засмеялась:
- Что, получила?
- А при чем тут татарский?
Я и в самом деле ничего не понимала. И заглянула братишке в лицо.
На меня смотрели ясные, светлые глазки, смотрели серьезно и немного грустно, будто жалели меня.
- Толичка, но ведь ты говоришь по-русски?
- Я-то говорю, - согласился снисходительно Толя, - да ребята не очень. Мы по-татарски…
- Ну да?! - удивилась я. - Ты прямо так и говоришь?! Ну-ка скажи что-нибудь!
В глазах Толика промелькнуло удивление.
- Ты же не понимаешь, зачем? - спросил он с упреком.
Я уж хотела рассердиться на его упрямство, но бабушка вступилась:
- Еще как говорит-то! Он теперь у меня переводчик: из татарских деревень придут женщины что-нибудь продать-купить, так удивляются: это, говорят, наверное, татар-малай (татарский мальчик)!… А что особенного! - Бабушка мне доказывает: - В детсаду больше татарские ребятишки, во дворе его ровесники тоже все татары. Это тебе не повезло - твои подружки-татарочки все по-русски говорят. А то бы и ты выучилась.
- Действительно! - протянула я. - Эх, Толька, повезло же тебе!
А Толька-то, Толик! Так важно, как взрослый, плечами только пожал.
Я вспомнила, что Толик наш вообще очень здорово приспосабливался к языку: не раз слышала, как, играя с мальчишками, он говорил точно как они, по-деревенски: «дожжык», «оттеда», «куриса», «ишо», а дома, ни разу не ошибившись, произносил те же слова правильно: «дождик», «оттуда», «курица», «еще»…
Это, видно, и помогло ему татарский так быстро выучить. И потому я до сих пор и не могла заметить, что он знает татарский.
Теперь я смотрела на маленького своего братика уже не сверху вниз, а как бы наоборот: он умел то, чего не умела я. Я только еще начала в школе учить немецкий язык и ничего не научилась говорить, кроме «Анна унд Марта баден» и «Вер ист хойте орднер?» (Кто сегодня дежурный?).
Еще мы все, конечно, знали слова «Хенде хох!» (Руки вверх!), но это уже не из уроков, а из газет, где описывались подвиги наших разведчиков. Когда берешь в плен «языка», надо немцам скомандовать: «Хенде хох!».
Вообще многие мальчишки считали, что ничего другого, кроме этих слов, из немецкого знать не следует. Этого вполне достаточно. А я думала, что даже очень бы надо. Ведь как здорово в разведке: сидишь, например, где-нибудь в засаде и слышишь, как немцы говорят. Можно же все сведения узнать! А если в тылу работать у немцев под видом, что ты за них, так вообще цены нет тебе, если ты все понимаешь по-ихнему. Ясное дело, что самой мне разведчицей такой не быть и не бывать. Потому что, как говорит мама, у меня все на лице написано. А в разведку нужно непроницаемое и суровое лицо. Но вот в засаду - это бы можно…
Да-а, только когда начинаешь учить чужой язык, понимаешь, как много, какое бесконечное количество всяких слов придумано. Это ведь просто ужас! Даже если, например, дорогу объяснить: «Вот пройдите так, потом так, потом направо». Или, например, сказать, как Александр Невский: «Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет». Даже если слова будешь знать, а как их составить? Всякие времена, спряжение, склонение, ударение…
Будешь говорить, как наш Нурулла Исмагилов в классе. Он слова все знает, а ударения никак ему не даются. Даже в стихах. Когда он стихи читает, можно умереть от страдания: очень смешно, а смеяться разве можно?! Нурулла тогда совсем замолчит! Да и жалко. Вот как он читает «Песнь о вещем Олеге»:
Как нынЕ сбИрается вещИй Олег
Отмстить нЕразумным хОзарам…
Бедный, как же ему трудно стихи учить, ведь у него совсем нескладно получается!
Я ему говорила один раз: «Нурулла, ты послушай, стихи же гладко идут, как речка течет, а ты скачешь, как по кочкам».
«Что такуй - кочкА?» - спросил меня Нурулла, опустив свои небольшие, ярко-голубые, как эмаль, глаза, и ярко-рыжие реснички заморгали, ожидая, что я отвечу.
У Нуруллы были бледные, в бледных же веснушках, пухловатые щеки и толстые бледно-розовые губы. Из всех ребят самый тихий, робкий даже, несмелый, ростом он уступал, пожалуй, только Карпэю, и руки у него были как у взрослого - кисти крупные, запястья широкие. Но, словно мы, девочки, он в перемену не подымался со своего места в углу на задней парте, не баловался с мальчишками.
Однажды, в первые дни, ребята стали было его дергать и «заводить», так он прилег на парту, спрятав лицо в скрещенные руки, и только взглядывал иногда на обидчиков своими кроткими голубыми глазами да жалобно вскрикивал: «Уйди, шайтан! Уйди, шайтан!»
Ребята посмеялись и больше его не трогали, а потом прозвали Вещий Олег. И даже просто Олег. «Нурулла, - кричат, - Олег!» А звали его главным образом для того, чтоб он объяснил задачу, пример бы дал списать. Арифметику он здорово знал. Тут, наверное, ему слова не мешали. А вот что такое кочка, он не знал. Я ему, конечно, объяснила… А Толечка наш тихо-тихо уже в пять лет выучил другой язык.
Пока я думала про все про это, братик мой заснул возле меня. И нам с бабусей пришлось его будить, раздевать, вести в постель. Он был тихий и кроткий и даже не капризничал. Тут же котенком свернулся в своей кроватке и продолжал спать.
Воскресенье: дела и происшествия
А мама с папой так и не приходили.
И я увидела их только на следующий день.
Очнувшись после ночи в тепле и укрытости постели, еще не совсем понимая, что к чему, я, словно цыпленок в лапы коршуна, попала в плен ужасной мысли: «Надо собираться в Пеньки! Опять покидать дом!» Видно, эта мысль все время во мне таилась: пряталась днем, спала ночью, а проснулась, злая, раньше всех, чтобы подстеречь меня, беспомощную со сна.
Сердце противно зачастило, захотелось пропасть совсем, чтоб ничего не видеть и не знать больше. И я обреченно открыла глаза, чтоб прямо в глаза блеснуло нацеленное на меня стальное жало гильотины - необходимости.
Мутно светлели высокие окна. Темновато. Тепло. Просторно в комнате.
Я дома. Чьи-то шаги, удаляясь, звучали, хлопнула входная дверь, и все смолкло. Гильотины не было.
«Воскресенье! Ведь только вчера пришли! Значит, Пеньки только завтра! Урра!!!» - заорала я беззвучно и зарылась головой под подушку. Я взбрыкивала ногами, колотила кулаками подушку, оглушая себя. Какое счастье: Пеньки только завтра!! Будто завтра - через сто веков! Будто завтра - это никогда! И с этим удивительным блаженным сознанием я выпрыгнула из постели:
Ай-ля! Ай-ля-ля!
Фу-ты, ну-ты, тру-ля-ля!
Мы по бережку идем,
Песню солнышку поем!
Ой-ля! Тру-ля-ля!
Песню солнышку поем!
Выходи ко мне, коток,
Котик, серенький лобок!
Ай-ли, тру-ля-ли!
Котик, серенький лобок!
И тут, наверное, разбуженное моими легкомысленными выкриками, ожило радио: наш черный репродуктор захрипел, заурчал, и грянула непреклонная музыка! Требовательные мужские голоса обрушились на меня обвалом, лавиной:
Вставай, страна огромная,
Встава-ай на смертный бой
С фашистской силой темною,
С прокля-а-атою ордой!
Я замерла, устыженная, прижав к подбородку руки с простынкой, которую складывала, заправляя кровать. И так стояла, а песня вымывала из меня всю легкомысленную радость (Господи! Воскресенью обрадовалась!), все мои смешные, маленькие страхи, словно это был легкий, пустой мусор. Я чувствовала, что становлюсь такой же суровой и строгой, как эта песня, как ее слова и напев. И вот я уже сама подпевала, включаясь в новый день, не просто мой, а общий со всеми: