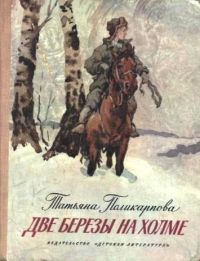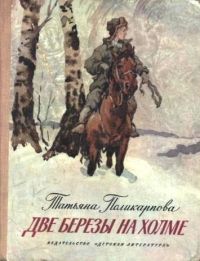Котик, серенький лобок!
Ай-ли, тру-ля-ли!
Котик, серенький лобок!
И тут, наверное, разбуженное моими легкомысленными выкриками, ожило радио: наш черный репродуктор захрипел, заурчал, и грянула непреклонная музыка! Требовательные мужские голоса обрушились на меня обвалом, лавиной:
Вставай, страна огромная,
Встава-ай на смертный бой
С фашистской силой темною,
С прокля-а-атою ордой!
Я замерла, устыженная, прижав к подбородку руки с простынкой, которую складывала, заправляя кровать. И так стояла, а песня вымывала из меня всю легкомысленную радость (Господи! Воскресенью обрадовалась!), все мои смешные, маленькие страхи, словно это был легкий, пустой мусор. Я чувствовала, что становлюсь такой же суровой и строгой, как эта песня, как ее слова и напев. И вот я уже сама подпевала, включаясь в новый день, не просто мой, а общий со всеми:
Пусть ярость благородная
Вскипа-а-ет, как волна!
Идет война народная,
Священная война!
Теперь я была готова ко всему, что принесет этот день и что настанет завтра. Я даже была готова хоть сейчас идти в Пеньки, так и не увидевшись с мамой и папой.
Но мама пришла к завтраку, успев наработаться, а папа, сказала она, поехал в дальнее отделение совхоза, там на ферме девчата-свинарки перессорились. Шаги, которые услышала я, проснувшись, - это папа уходил. Мама рассказала нам прекрасную новость: рабочий комитет совхоза решил тем ученикам, которые учатся вдали от дома, давать рабочие карточки на хлеб: то есть по шестьсот граммов на день, а не по триста, как полагалось иждивенцам.
«Вот здорово, теперь я буду брать с собой в школу только свой хлеб, и мне будет как раз на неделю! И семью не обделю!» Все это я сразу сообразила, но теперь не стала шуметь своей радостью.
А мама, видно думая о том же, сказала:
- Главное, за Садова, за Ивана Палыча, с души отлегло: они же Степану весь хлеб отдавали, сами на одной картошке сидели.
Я знала: родители у Степки были совсем уже пожилые, мать больная, не работала, только отец, плотник Иван Павлович, имел рабочую карточку - вот и все.
И цыганистый, черный Степка был длинный и худой, как жердина, а бледно-смуглые щеки его втянуты, запали. По одному его виду скажешь, что он все время есть хочет.
Знала я это все и видела, а порадовалась сначала за себя! И мне было стыдно теперь, будто мама, подумав о Садовых, уличила меня в эгоизме. Вот мама моя - не то что я!
Весь остаток этого дня мы выкапывали картошку на своем участке за оврагом, за тем самым, где врыты в его склон землянки-бани. Это сразу за нашим домом, позади сада. Обычно в деревнях садами называются участки с фруктовыми деревьями, а в нашем росли березы и несколько лип.
Тут, пока не училась в Пеньках, любила я играть, воображая этот сад и овраг то джунглями, то тайгой, где водятся уссурийские тигры и огромные питоны-удавы.
Копать картошку в сухой прохладный день просто здорово! Каждый картофельный куст - состарившиеся, сморщенно-дряблые коричневатые стебли с пожухлыми, будто изжеванными листьями - как загадка: вводишь под рыхлый холмик земли, из которого он торчит, свою лопату или вилы, осторожно вводишь, чтоб не задеть клубней, и не знаешь, что там тебя ждет - бодрые, самодовольные картошины-толстячки или дробная мелочь? Иной куст опрокинешь, а под.ним словно клад, словно тайник картофельный: цельных полведра наберешь!
И как же оглушительно-смертельно вдруг раздается хруст - это твоя лопата врубилась в живой клубень! Со стоном боли рвала я лопату на себя, но поздно: насаженная на ее лезвие, как на великанский ножик, сидела неосторожная картофелина, обычно самая крупная, и земельная мелкая пыль, смоченная соком из пореза, чернела на лопате, будто темная кровь раненой картошки. Я снимала картофелину с лопаты и, если порез был глубок, совсем разламывала клубень, чтоб еще раз подивиться, какой чистейшей сахаристой кре-мовостью наливается картошка в глубине черной земли. А ведь только тоненькая пленка кожуры хранит ее от грязи и микробов.
Хотелось лизнуть влажный, сверкающий разлом картофельного тела, и я лизала. И долго сплевывала сырой, крахмалистый, чуть едкий привкус, остающийся на языке.
«А есть люди, - припоминала я чьи-то рассказы, - которым нравится есть сырую картошку - не потому, что голодные, а просто картошка им словно яблоки. Такому человеку работать на картошке - равно что пир пировать. Как если б мне в яблоневом саду. Хорошо бы, если б вдруг картошка - ну хоть под одним кустом! - превратилась в яблоки! Вот под этим! Ну, здесь нет, так под следующим! Ах, нет, тогда вот здесь!» Я поддевала лопатой куст за кустом, выбирала клубни в ведро, сносила в одну кучу.
Яблок не было, конечно. Я между тем думала, что если совсем нечего есть и костер нельзя развести - например, в партизанском отряде, - так и картошке сырой будешь рад.
Мы работали с мамой, а к вечеру должен был приехать отец, пригнать лошадь, чтоб свезти картошку.
Хорошо нам было, когда мы все выкопали, насыпали картошку в мешки и сели на них, чтоб подождать папу. Еще светло было, тихо.
Может, оттого, что сами мы устали, а теперь отдыхали, все вокруг казалось усталым и тихо отдыхающим. И кроткое осеннее небо с застывшими в неподвижности, вялыми какими-то облаками, и даль поля, и все растения вблизи нас - пушистые, все еще в цвете, заросли аптечной ромашки, сочный молочай и сухой голенастый осот, и проволочно-жесткие, встопорщенные кустики пастушьей сумки. Даже отжившая свое картофельная ботва, вырванная нами из земли, и та вроде прилегла отдохнуть, а не умереть на разрытых бороздах… Отдыхая, стояли деревья сада; шагала медленно лошадь, а рядом с ней женщина, держащая вожжи, - они приближались к совхозу от недальнего леса. И тесно припали к земле постройки - дома, особенно фермы; длинные, низкие, они, кажется мне, так и растянулись на земле, расправив каждый деревянный суставчик долгого своего тела.
Мы сидели, прижавшись друг к другу. Я положила голову к маме на плечо, и она держала мою руку у себя на коленях. И я видела с гордостью, что наши руки стали похожи - одинаково задубевшие от земли и картофельного сока, шершавые, горячие. Я глянула вверх, в лицо маме, и увидела ее глаза, кротко-голубые, как осеннее небо, большие на похудевшем, загорелом лице. Она смотрела на меня так ласково, что я от смущения стала бодать ее головой в бок, в плечо, приговаривая:
- Пришла коза рогатая, рогатая, бородатая…
- Ну, значит, отдохнула! - засмеялась мама. - Тогда поди-ка сбегай домой, не приехал ли папа. Поторопи его!
- Да он сейчас сам приедет!
Не хотелось мне уходить сейчас с поля. Да и подумалось: вдруг папы еще нет? Будет обидно: приду, а его нет. Но только подумала - и тут же мы увидели лошадь, вывернувшую из-за дома, и папу на телеге.
- Едет! - вскрикнула мама.
А я сорвалась с места, будто меня и не было на мешке возле нее. Я неслась навстречу папе, чувствуя, как повторяется миг, уже давно пережитый; как повторяется все во мне самой: будто я бегу спасать папу, будто от того, как быстро я достигну, достану до него руками, прижмусь к нему лицом и всем телом, зависит его спасение. Тогда он возвращался с войны, больной, после госпиталя. Больной, раненый, но живой. И возвращался к нам насовсем. И я бежала сейчас, как тогда: не дыша и ничего не ощущая, кроме жажды - добежать! Чтобы спастись возле папы. Да, теперь уже самой спастись от Пеньков, от чужого мира. Ведь только папу, придя домой, я еще и не видела. И значит, для него я как бы еще не возвращалась, и теперь, при виде его, я и сама так чувствовала - и бежала, бежала, возвращалась совсем!
Я налетела на папу вихрем, и он меня подхватил, теперь он мог это! А тогда, после госпиталя, был он так слаб и так бледен какой-то еще невиданной мною, тусклой, сероватой желтизной, что я невольно остановилась и побоялась обнять его крепко, лишь обхватила его руку, а забравшись к нему в тарантас, прижалась к плечу, а потом зарылась головой под руку, под мышку, но осторожно, боясь резко толкнуть: я знала - у него была рана в живот и сложная операция…
Сейчас он меня подхватил и чуть приподнял, а потом отстранил, заглянул в лицо:
- Ну, как дела, студентка?
- Ой-е-ей! Студентка! Ха-ха-ха!
- Отчего же «ха-ха-ха»? Раз живешь ради ученья на стороне, значит, и есть студентка!
- А ты тогда кто? Где сам пропадаешь?
- М-м! Это целая история!
Мы уже подходили к маме, и она встала нам навстречу.
- Да, уж совсем заждались! - сказала она и приподнялась, маленькая, на цыпочках, чтоб поцеловать. - Ну, что там случилось на ферме?
- Такое случилось…- Папа даже руками развел: дескать, просто уму непостижимо! - Целая трагедия. В двух действиях. Первое действие называется: «И выросла свекла большая-пребольшая…» А второе: «Преступление и наказание».