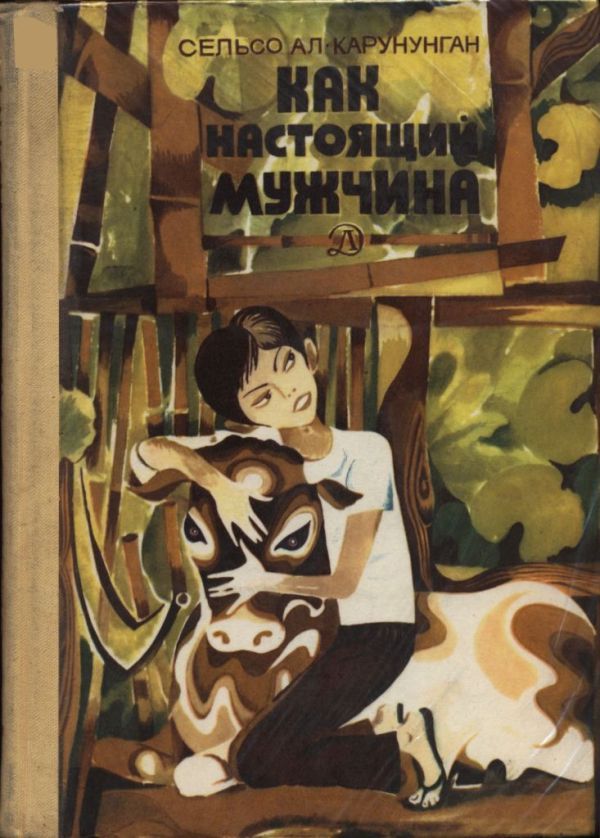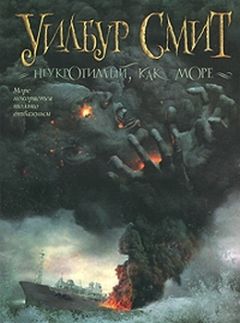уехать отсюда.
«Но я не могу этого сделать, — сказал я. — Это отцовский дом, он дорог и мне и тебе».
Я боготворил наш дом, как храм. Его построил своими руками отец незадолго до того, как умер от укуса змеи. Моя мать, твоя бабушка, тоже помогала отцу. Она нареза́ла для пола бамбуковые планки и сама укладывала их, оставляя полудюймовые [14] промежутки между ними. Когда пол был готов, она тщательно натерла его соком из банановых листьев.
«Нет, Тина, — сказал я твердо, — я не могу расстаться с домом».
Мама не стала спорить. По моему тону она поняла, что это бесполезно. Она просто подошла к окну и уставилась в темноту ночи. Я последовал за ее взглядом: окно показалось мне бесконечным черным тоннелем…
Интонация голоса отца все время менялась. В темноте я видел, как во время рассказа он помогал себе руками.
— Как-то в поисках работы я забрел в соседнюю деревню на другом берегу реки и там неожиданно встретил закадычного школьного друга Ху́лио. Дела его, видно, шли неплохо. На нем была новая белая шляпа с широкими полями, надежно укрывавшая от палящего солнца, на ногах, несмотря на будний день, штиблеты, а в руках трость. Я обрадовался встрече. После всех передряг приятно было видеть бодрого, преуспевающего человека.
«Уж не занялся ли ты политикой? — спросил я Хулио с улыбкой. — Ты выглядишь, как городской казначей».
«Нет, Томас, — важно ответствовал он, — я не люблю политику и всегда повторяю: если кого-нибудь ненавидишь, посоветуй жене врага своего втянуть его в политику; удастся — ты выиграл. Я ненавижу политические махинации. Часто политика — грязная игра».
«Чем же ты занимаешься?» — спросил я, втайне надеясь извлечь хоть какую-нибудь выгоду.
«У меня хорошее дело», — гордо сказал он.
«Открыл предприятие?»
«Да, игорный дом».
«Игорный дом?!» — вытаращил я глаза. На миг мне показалось, что я услышал не голос Хулио, а отвратительный треск крыльев саранчи.
Хулио остановился возле гигантской акации, оперся о ее толстый ствол, снял шляпу и стал ею обмахиваться.
«А что тут предосудительного? — сказал он. — Что бы мы ни делали в жизни, это сплошная игра со всеми ее законами. Возьми, например, фермерство. Ты вкладываешь деньги и начинаешь ждать. Если тебе повезет, ты снимаешь богатый урожай, не повезет — налетит саранча и сожрет весь твой рис. Ты знаешь, о чем я говорю».
Было странно, он вел речь о картежной игре не как об отвратительном занятии, а наоборот, убеждал, что я все время участвую в игре, не ведая об этом.
«Когда понадобится моя помощь, Томас, заходи. Мой дом легко найти — это единственный деревянный дом во всем Сан-Миге́ле…»
Отец переменил позу, сено зашуршало под ногами. Какое-то время он сидел молча, глаза его были устремлены вдаль. Свет наверху стал постепенно тускнеть, час был уже поздний. Отец глубоко и тяжело вздохнул, но видно было, что на душе у него стало полегче.
— Когда я вернулся домой в тот вечер, — продолжал отец свой рассказ, — я не застал маму дома. Она вернулась позднее. Мама разожгла огонь, а я спустился во двор нарубить бамбука. В тот вечер на ужин был рисовый суп, единственное, что мы могли себе позволить по нашим скромным средствам.
Я молча взглянул на маму, потом перевел взгляд на пустой суп. Я понимал: маме в ее положении нужно лучше питаться, нужен особый уход. Я глубоко вздохнул, вышел из-за стола и поставил недоеденный суп на поднос.
«Тебе не понравился суп, Томас?» — с тревогой спросила мама, тоже поднимаясь из-за стола.
«Да нет, я не очень голоден», — ответил я, но она понимала, в чем дело. Еще ни разу я не отказывался от пищи, которую она готовила собственными руками.
«Между прочим, — мягко начала она, — отец Кастрильо́ сказал, что у него есть на примете человек. Он хочет купить наш дом и землю и предлагает неплохие деньги. Давай продадим все и уедем в Сан-Мигель. Может, нам повезет?»
Я промолчал. Это был старый вопрос, для себя я уже давно на него ответил. Снова взялся за ложку. Покончив с супом, понес тарелку на кухню. Взглянул в окно — передо мной вновь открылось мертвое поле. Его покрывали погибшие рисовые стебли, и только кое-где виднелись ростки, стойко сопротивлявшиеся западному бризу. Не поле, а кладбище.
Всего несколько недель назад из этой кухни я любовался колосившимся рисом. Тот же ветерок гнал по полю золотистые волны. Я вспомнил, как радостно пели и танцевали женщины на деревенской фиесте, и среди них выделялась наша мама. Платья их развевались по ветру, переливаясь всеми цветами радуги…
Мне стало горько. Я ушел из кухни, снял рубашку и, чтобы не видеть поля, сел у другого окна. Перед ним торчало манговое дерево и виднелись грядки редиски. Мама опустилась на пол у моих ног. Она склонила голову мне на колени, и пальцы мои утонули в ее чудесных волосах.
«Что говорит повитуха, Тина?»
«Осталось ожидать несколько дней».
«У нас есть еще время, не надо спешить с продажей дома».
«Ты прав, Томас», — мягко сказала мама.
Мы сидели, прижавшись друг к другу.
«Завтра я повидаюсь с Хулио. Ты, должно быть, помнишь его? Это парень, который играл на мандолине в тот вечер, когда за мои серенады под окном твой грозный отец окатил нас ведром воды».
«Ну еще бы, — ответила мама, — как забыть Хулио, самого умного мальчика в вашем классе».
«Отлично. Я его встретил сегодня, вид у него был, что у твоего джентльмена. В штиблетах, в руках трость, а разодет — будто собрался на свидание со святым Петром».
Мама потерлась щекой о мое колено, и я снова стал ласкать ее волосы. Ночь была тихой, теплой. Ветерок овевал наши лица, как теплая вода во время купания вечером в сухой сезон.
«Хулио предлагал свою помощь, — продолжал я. — Не сходить ли к нему? Может, и дом продавать не придется».
«Может быть», — как эхо, откликнулась мама. Она встала и с лампой в руке спустилась к колодцу за водой. Она всегда мыла ноги на ночь. Я пошел за ней. Мама опустила ведро. Я перехватил веревку и поднял воду.
«Тебе не стоит браться за тяжелую работу, — сказал я, — иди наверх, отдыхай».
«Ты обращаешься со мной, как с ребенком», — улыбнулась мама, я улыбнулся ей в ответ.
Свет лампы заплясал по нашим лицам. Мы забыли о саранче, о погибшем урожае. Эта ночь показалась мне такой темной, такой нежной, как волосы твоей матери.
Рано утром я