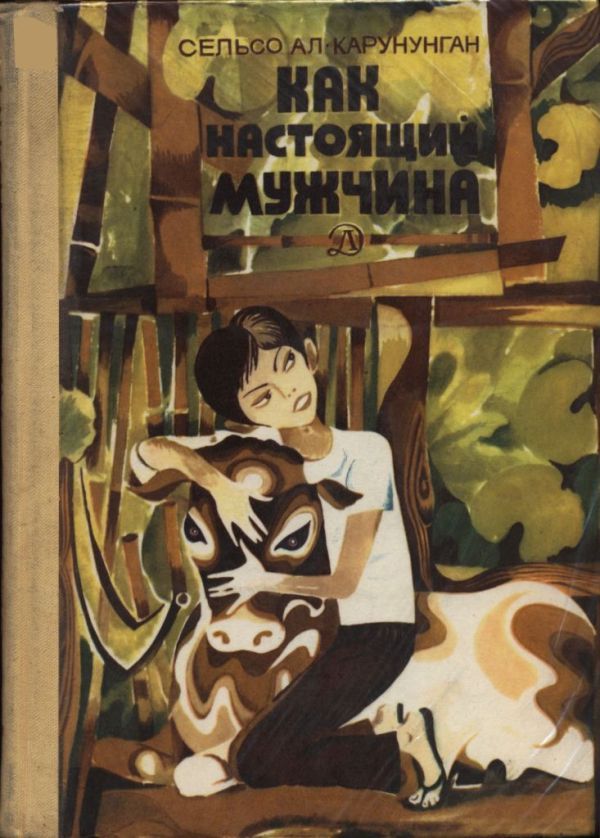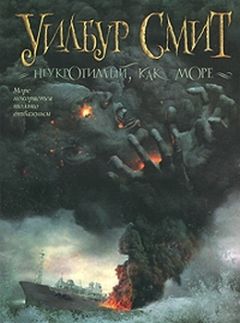умылся на речке, надел чистую рубашку и плетеные сандалии.
Хулио встретил меня у двери дома. Во рту у него торчала сигара, а на голове, несмотря на ранний час, надета шляпа.
«Я пришел к тебе за помощью, Хулио, — произнес я. — Моя жена Тина — ты знаешь ее — ждет ребенка».
«Тебе нужны деньги», — понял Хулио, стряхивая пальцем с сигары пепел.
«Да, сто песо, если можешь».
«Мне нужен помощник. Дело не сложное. Нужно наблюдать за карточными столами и после каждой партии собирать комиссионные. Как ты? Платить буду три песо в день».
«Да, но мне нужно сто песо сразу», — в замешательстве ответил я.
«Ты их получишь, а долг вернешь постепенно».
Лицо мое просветлело, я с облегчением улыбнулся, будто он сообщил мне, что саранча навеки исчезла с лица земли.
«Спасибо, Хулио, — взволнованно сказал я. — Можно, я начну уже сегодня?»
«Как знаешь!» — согласился он, и мы вошли в игорный зал. Там стояло семь столов — мое рабочее место.
Часов в десять утра за вторым столом раздался плач. Рыдала алинг Инга. Она проиграла десять песо, которые муж дал ей на хозяйство. В одиннадцать за четвертым столом бухнул кулачищем манг Индо и заорал: «Мошенники!»
Меня начала бить нервная дрожь. Примерно в половине двенадцатого, когда я подсчитывал выручку, ко мне подошел Хулио. Коснувшись плеча, он показал глазами на окно. В женщине, придерживавшей развязавшуюся юбку и поспешно пересекавшую улицу, я сразу узнал твою мать… Я поторопился к ней навстречу и встретил как раз, когда она, приподняв юбку, собиралась сделать первый шаг по лестнице. Лицо ее покрывала мертвенная бледность, я слышал ее тяжелое дыхание.
«Что случилось, Тина?» — с тревогой спросил я.
«Какой кошмар, Томас! Я рассказала отцу Кастрильо, что ты отправился за помощью к Хулио».
«Да, — я гордо выпятил грудь, — он дал мне работу».
«Но, Томас, — всхлипнула мама, — ты не ведаешь, что творишь. Отец Кастрильо сказал, что Хулио — картежник!»
«Ну и что? Каждый из нас игрок, только по-своему. Любой! Что священник, что политик, что фермер. Все они полагаются только на удачу. Или я не прав?»
«Что ты несешь, Томас!» — в необычайном волнении воскликнула мама.
«Бог помогает только тем, кто помогает сам себе, — убежденно сказал я. — Не так ли говорил тебе сам отец Кастрильо? Я решил помочь себе ради нас с тобой. Ты поняла?»
«Томас, — вскричала мама, — бог помогает только достойным! А чего достойны картежники?»
«Тина!» — остановил я ее.
«Томас, — дрогнувшим голосом сказала мама, — лучше продать дом, чем душу дьяволу!»
В этот момент в дверях игорного дома появилась алинг Инга. У нее был вид сумасшедшей.
«Что я натворила… — причитала она. — Теперь муж убьет меня!»
Мама, увидев Ингу, побелела. Я заботливо взял ее за руку.
«Пойдем домой, — закричала она, — умоляю, Томас!»
Я обнял ее и растерянно пробормотал: «Где же достать деньги, Тина?»
В игорном зале раздался грохот упавшего стула и яростный крик Индо: «Негодяи! На глазах обкрадывают!»
Из дома, вцепившись друг в друга, вывалились манг Xocé и манг Индо. В пылу схватки они даже не заметили, как у них свалились туфли. Вдруг Индо выхватил из кармана нож и полоснул им Хосе. Закричали женщины и тут же зажали рты ладошками. Ни один мужчина не сдвинулся с места. Рубашка на груди Хосе окрасилась кровью.
«Шулеры!» — вопил Индо, вновь замахиваясь ножом.
Дикий крик заставил всех обернуться. Кричала твоя мать. Она побелела, как облако в апреле, и потеряла сознание. Я подхватил ее на руки и понес в соседнюю с залом комнату. Там я уложил ее на кровать, покрытую банановыми листьями. Позабыв про обидчика, за нами поспешил Индо, а Хосе отправился на кухню отмывать кровь. С чашкой салабата в комнату влетел Хулио.
Мама наконец пришла в себя, и я повел ее домой. По дороге я не проронил ни слова, мучительно размышляя над случившимся. У нашей калитки я шепнул, что хочу повидаться с человеком, про которого говорил отец Кастрильо. Мама улыбнулась.
«Если уж уезжать, — сказал я, — то подальше от этого места. Поедем в Сан-Пабло, это за горной грядой Балайха́нгин. Там, говорят, земля побогаче и кокосовые орехи покрупнее…»
Голос отца приобрел значительность и торжественность. Дождь кончился, и лягушки на заднем дворе умолкли. Иногда слышалось поскрипывание бамбука, гнувшегося под порывами ветра, да изредка доносились глухие удары кокосовых орехов, падавших на землю.
— Через два дня, — продолжал отец, — я продал дом и устроился на плантацию к испанцу, здесь в баррио. Через неделю мама родила мальчика, первого в нашей семье. Крепкого, здорового мальчугана. — Отец хлопнул меня по плечу и взъерошил волосы. — Это родился ты, Криспин, — улыбнулся он.
Я не нашелся что ответить. У меня было такое чувство, будто мне вырвали больной зуб. Боль прошла, но обезболивающий укол все еще продолжал свое действие, во рту все онемело.
Полосы света, падавшие сверху на лицо отца, стали ярче, темнота еще гуще. За спиной я почувствовал, как замахал хвостом буйволенок, — Сильвер проснулся. У меня снова навернулись на глаза слезы.
На лестнице появилась мама. В руках она держала яркий плед, служивший мне одеялом. Было видно, как тяжело ей дается каждый шаг. Я бросился к ней, слезы с новой силой хлынули из моих глаз. Она укутала меня одеялом, и я замер в ее ласковых объятиях. С вороха сена поднялся отец. Я поспешно отер слезы и решительно произнес:
— Теперь… Теперь настала моя очередь принести жертву!
Громко и протяжно вздохнул Сильвер. Снова захлопали крыльями всполошившиеся куры. Закукарекал петух.
Одно время дядя Сиано и тетя Клара жили в Санта-Крус, там дядя работал в промышленном училище. В первые же дни войны при воздушном налете японских самолетов дом их был разрушен, а сын погиб в битве за Батаан [15]. Они бросили Санта-Крус, вернулись в баррио Ремедиос и стали жить вместе с нами.
Дядя был хороший столяр и скучал по своей работе в училище. От нечего делать он частенько вырезал для меня острым кухонным ножиком маленькие кораблики.
После того как мы вместе со взрослыми вырыли щель для укрытия от воздушных налетов, делать в доме стало нечего, и дядя с утра уходил на соседние фермы в поисках работы. Возвращался он вечером и обычно всегда приносил то дыню, то батанасские апельсины, то печенье из касавы [16]. Это печенье всегда продавали женщины у дороги. В войну, особенно в последние годы,