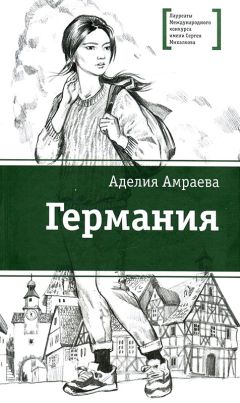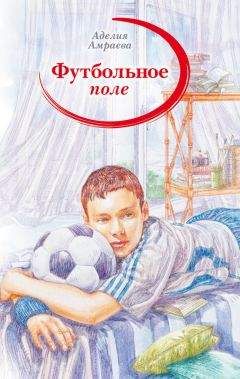Макос сжал ручку сиденья и нахмурил брови. Фашист на любом языке «фашист», и по глазам стюарда, который обернулся в сторону мужчины было видно: он понял.
Программа поездки была насыщенной. Организаторы запланировали много экскурсий, встреч и ничуть не меньше уроков. Немецкий в нашей группе я знала хуже всех. Мне всегда помогал Макос, если я что-то не понимала.
— Вы, я смотрю, сдружились с Макосом. — Карина подсела ко мне, когда мы ехали в автобусе в Веймар, на нашу первую экскурсию.
Я оглянулась в сторону Макоса — он оживленно болтал с немецким мальчиком, нашим ровесником, из того самого класса, который на неделю принял нас.
— Ну-у!.. — протянула я. — Да. А что?
— Ничего, он мальчик занятый. Так что ты не сильно.
— Купленный? Бумагу с правами покажи. — Отчего-то Карина разозлила меня. То ли потому, что ничего такого у меня и в мыслях не было, то ли потому, что она прочитала как раз мои самые потаенные мысли…
— Что, провинциалка, зубки прорезались?
Я не знала, что ответить.
— Смотри, провинциалка. У тебя зубки, а у нас, городских, — клыки. Так что ты не особо давай! — И Карина снова отсела к Сание.
Первым делом, доехав до вокзала Веймара, мы пешком пошли к дому Гёте.
— Любишь Гёте?
Макос взялся из ниоткуда, в тот момент, когда я размышляла: «Если я родилась в городе и прожила там четыре года, разве я деревенщина?»
— Да, — ответила я натянуто, оглядываясь на Карину.
— Шиллера больше? — Макос подмигнул.
— Шиллер мне ближе.
— Мне тоже. Слушай… — Он подставил мне локоть, предлагая взять его под руку. — С кем мне общаться, решаю только я. А ты?
— Что я?
— Ты решаешь, с кем тебе общаться, или за тебя это делает кто-то другой?
Я еще раз посмотрела в сторону Карины.
— А что, тебе комфортно общаться с провинциалкой? — спросила я, игнорируя выставленный Макосом локоть.
— Про-вин-ци-ал-ка, — произнес он, смакуя каждый звук. — Красиво звучит! Не было б комфортно общаться, не общался бы! — И он снова подмигнул.
— У тебя нервный тик? — Я засмеялась.
— Для особо упрямых — да! Что из Шиллера любишь?
— «Разбойников».
— Ух ты! Я тоже!
По дому Гёте мы с Макосом ходили без особого энтузиазма, почти не слушая экскурсовода. Только касались стен руками в каждой комнате роскошного дома, окрашенной в определенный цвет, — как бы впитывали старину в себя. Это Макос придумал. Когда все пошли в старый город, продолжая экскурсию, Макос потянул меня за руку:
— Тут рядом дом Шиллера. Пойдем?
— А как же все? Старый город?
— Мы быстро посмотрим дом Шиллера, потом пробежимся по старому городу и вернемся к автобусам. Без нас не уедут.
Я согласилась. Без историй экскурсовода, в полной тишине, слушая скрип половиц, вдыхая аромат прошлого, далекого, но не забытого, мы прошлись по дому Шиллера. Он был намного меньше дома Гёте, убранство намного беднее. Нам в школе внушали, что они были неразлучными друзьями — Гёте и Шиллер. А тут учителя рассказывали, как тяжело приходилось Шиллеру, как неровна была их дружба, как далека от идеала.
— Получается, дружбу разрушает не только расстояние, но и бедность? — спросила я шепотом, когда Макос «обнял» очередную стену.
Так он, по его словам, общался с прошлым, делился с ним своим теплом.
— Дружбу ничего не может разрушить, — тихо ответил он. — И Гёте горевал, когда умер Шиллер.
— Но ведь рассказывали же, что не очень крепкой у них была дружба.
— Подумаешь, повздорили несколько раз, разошлись во мнениях где-то. Дружба без шероховатостей — это вовсе не дружба тогда, а игра. — Макос говорил так уверенно, будто точно знал, что так оно и есть, что не может быть по-другому.
— У меня были друзья… — Мы вышли к прилавку с сувенирами, и я расплачивалась за выбранный магнитик. — Они все переехали в Германию. Я потеряла их…
— Дильназ, да вот же она, Германия! — Макос раскинул руки в стороны. — Не так далеко, как казалось. Так что не в расстоянии дело.
Возле памятника Шиллеру и Гёте, где они застыли вместе навеки, навсегда, мы сфотографировались. Сначала по очереди, потом попросили сфотографировать нас немецкого дедушку, который проходил мимо.
Два великих поэта держали один лавровый венок. Они разделили славу, разделили успех. Они разделили жизнь после смерти: ведь никогда, заговорив о Гёте, не забывают упомянуть Шиллера. И наоборот. Не важно, что говорят. Нам не узнать, как было на самом деле. Мы видим, как было скорее всего: Гёте и Шиллер вместе, на одном пьедестале, бок о бок, рядом, смотрят в одну сторону, видят одну цель…
— В Йене есть садовый дом Шиллера, — сказал Макос на обратном пути. — Успеем сходить, если прогуляем урок.
— Садовый дом?
— Да, ты разве не знаешь? Письмо Шиллера к Гёте не читала? Что у него наконец-то появился дом, свой. И кухню он там отдельную сделал, потому что не выносил запаха готовящейся еды…
Боясь гнева Ольги Эмировны, я все же пошла с Макосом. Мы пробежались по дому, пофотографировали. А после, рассуждая о том, как хорошо было Шиллеру писать «Вильгельма Телля» под деревом в собственном саду, сидели на лавочке и ели яблоки с шиллеровского дерева.
Университет имени Шиллера, где он преподавал, его садовый домик, церквушка в старой части Йены, где он венчался, — вся Йена пропитана Шиллером, в большей степени им, чем «Йенскими чудесами»[9]. И на каждом шагу, по всему городу рассыпаны письма. Шиллера к Гёте…
Влетело нам неслабо! Ольга Эмировна, по словам Макоса, никогда еще так не злилась.
— Мне было стыдно, стыдно за вас! — кричала она в гостинице. — Мало выходки в Веймаре, так вы еще и урок прогуляли!
Макос молчал и подмигивал мне. А я извинялась за обоих. Через день занятий в школе, на которых усерднее нас с Макосом никого не было, мы снова поехали в Веймар.
— Веймар — удивительный город. Зловещий такой, — сообщил Макос.
— Почему?
— Ты не знаешь? — Он был удивлен. И впервые не подмигнул, когда мне стало не по себе. — Ты не слышала о Бухенвальде?
— Слышала, конечно, — обиженно проговорила я.
— И ты не знаешь, что он рядом с Веймаром находится?
— Нет, — сказала я тихо.
— Э-э-эм, а программу ты не читала?
— Читала. Я думала, мы в Бухенвальд после Веймара поедем.
Макос улыбнулся.
— Так и есть, — сказал он. — Мы поедем в Бухенвальд с вокзала Веймара. Оттуда автобусы ходят.
Встречи с Бухенвальдом я ждала. Ее я боялась. Немец-экскурсовод встретил нас у длинных домов, стоявших в ряд. В одном из них наши немецкие одноклассники взяли наушники и разбрелись по территории лагеря. Им разрешили так, потому что экскурсовода они уже слушали. Мы же, иностранные ученики, прибились к небольшой кучке туристов разношерстных и по возрасту, и по национальности.
— Я буду говорить по-немецки, меня все поймут? — спросил экскурсовод на немецком после приветствия. — Если что-то будет непонятно, переспрашивайте, не стесняйтесь.
И он повел нас. В ад. Ад, сотканный из прошлого, сотканный из воспоминаний. Ад, рожденный человеческой жестокостью… По дороге, которую пленники прозвали «Карахо», где слабых, споткнувшихся, нечаянно упавших затаптывали или забивали до смерти. К воротам с надписью, которую можно было прочитать только изнутри: Jedem das Seine[10], чтобы пленники каждый раз на построении читали и понимали: они заслужили того, чтобы находиться здесь. Мимо зоопарка, за которым они наблюдали из-за колючей проволоки, где животных кормили намного лучше… В крематорий.
Когда мы вышли из крематория, то почти все плакали. Я ревела навзрыд, не сдерживая себя. Мужчина, иностранец, уставился на пень — все, что осталось от утешения пленников — дуба Гёте. Бабушка в инвалидной коляске тихо всхлипывала, а ее внучка, катившая коляску, уткнулась ей в колени. Карина с Санией прижались к Ольге Эмировне. Женщины плакали не стыдясь, мужчины молча замерли. Макос тоже замер, сдвинув брови и взявшись за голову. Экскурсовод дал нам время. Много времени.
— Я знаю, у каждого из вас в голове сейчас один и тот же вопрос, — сказал он наконец. — Кто в этом виноват?
Да! Мне вдруг захотелось закричать: «Да! Кто в этом виноват? Кто?»
— И я отвечу на ваш вопрос, — продолжал экскурсовод. — Мы, немцы, единственные, кто остался в этом виновен.
Англоязычные мужчины, наша школьная группа, бабушка в коляске и ее внучка, несколько женщин, говоривших то ли на чешском, то ли на польском, — все мы уставились на экскурсовода в безмолвном удивлении.
— Да. — Экскурсовод покачал головой. — Именно мы, немцы. Когда лагерь освободили, когда привели жителей близлежащих деревень и спросили: «Почему вы этого не остановили?» — они ответили, что не знали. Они не знали, хотя видели черные клубы дыма… Не знали! Но ведь они всё знали и молчали. И те, кто молчал, виноваты ничуть не меньше, чем те, кто убивал. Если бы каждый сказал не боясь, если бы каждый выступил против, ничего этого не было бы. Можно посадить в концлагерь одного несогласного, двух, сотню, но весь народ гитлеровцы победить не смогли бы…