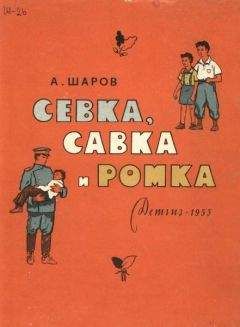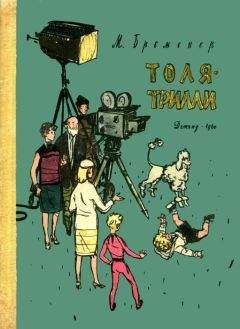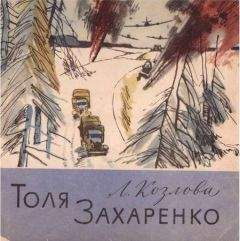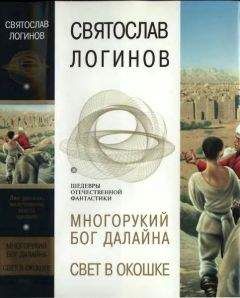Пыль, которую осень мела по улицам города С., начинала пахнуть перегоревшим мазутом. Ветер гудел, как танковые моторы, желтые и красные кленовые листья неслись навстречу, точно флажки на ученье. Они падали и поднимались, передавая сложные сигналы.
Дома Алексей Иванович брался за учебники. С чертежей и схем танки вырывались в мир, заселяя леса, окружавшие город с юга и юго-востока. Чувствовали ли солдаты великой армии, раненые, контуженные, имеющие право на отдых, как в глухой, ночной час легостаевское воображение извлекает их из теплых кроватей, облекает в защитные гимнастерки, что хранятся на дне сундука? Чувствовали ли они, как вновь превращаются в комвзводов, комрот, комбатов, поражают на ходу мишени, валят своими танками сосны, прорываются с десантом через укрепленные линии? Чувствовали ли это директор первой музыкальной школы капитан запаса Воруза, который вследствие тяжелых ранений может спать только в одной позе, на спине, подложив под раздробленный, плохо сросшийся затылок согнутую руку, или знаменосец Махотка, или молчаливый по причине перебитой осколком челюсти директор «Металлоприбора» майор запаса Луденюк? Я думаю, что должны были чувствовать.
А утром, прежде чем уйти на работу, Легостаев принимался за письмо.
Он теперь не сдерживал себя: к чему? Все мосты взорваны. Он писал, по два, даже по три раза переделывая каждую фразу, сурово вычеркивая все ненастоящее, то-есть недостойное быть настоящим. Примеры, взятые из истории бригады, сливались с уставными положениями.
Это был мир выдумки, которая силой веры становилась правдой. Это была сама романтика, поднимающая человека на широких крыльях, но не отрывающая его от земли. Это был голос бригады, воспитанной Иваном Горенко, Василием Степуновым, партией, страной. Такой сильный, чистый, вечный голос, что даже теперь, когда, на взгляд иного, бригада не существовала, он преодолевал пространства, наполнял сердце мальчика, вел его по пути чести, делал все яснее и ближе цель, для которой стоит жить.
Это были письма, где каждое слово находило отклик в душе Петра Горенко и в душах самых верных его друзей. Так что теперь бригада, люди ее существовали не только в сознании Легостаева, но и в горячих головах десятков ребят, которые по этим письмам учились жить. Мечта стала явью, она никоим образом не могла исчезнуть.
В ноябре пришел ответ с Сахалина. Оттуда сообщали, что Степунов получил новое назначение и улетел на самолете в один из дальних районов Арктики. Письмо ему можно будет передать только летом будущего года.
До весны все шло попрежнему.
За эти месяцы Легостаев получил премиальные, досрочно составив баланс, — это помогло привести в равновесие несколько шаткий бюджет.
В первые две недели апреля письма из Ровеньков не приходили. А пятнадцатого была получена телеграмма: «Мама умерла. Разрешите приехать к вам. Петр Горенко».
Не раздумывая, Легостаев сразу ответил: «Приезжай». И сообщил адрес.
Поезд подходил к станции в девять часов вечера. Уже почти стемнело. Легостаев молча стоял рядом с Довбней. Три медали «За боевые заслуги» поблескивали в темноте на гимнастерке Алексея Ивановича. Он стоял навытяжку, как в строю, не замечая теплого весеннего дождя. Капли стекали по лицу, по плечам. Легостаев вглядывался в красные и зеленые огни семафора. Когда вдалеке мелькнул белый огонек приближающегося поезда, он, не оборачиваясь, сказал Довбне:
— Все-таки имелся обман?
— Какой же это обман? — неуверенно ответил младший лейтенант.
— Мальчик поймет, — подумав, тихо проговорил Легостаев. — Должен понять, поскольку сын полковника Горенко.
— Должен! — кивнул головой Довбня.
Почему-то от этого короткого слова Легостаев почувствовал себя лучше. На секунду, как во сне, ему показалось, что не два человека, а вся бригада находится здесь. За спиной, в темноте, подняв орудийные стволы, с открытыми люками, в которых стоят командиры, выстроились танки.
Бригада жила, она встречала своего сына. Поезд, который вез Петра Горенко, с грохотом, все ярче сверкая паровозными огнями, мимо открытого семафора мчался к станционному перрону города С.
Сержант Родионов уезжал из города и сдавал свой участок старшине Лебединцеву, недавно демобилизовавшемуся из армии. Поезд уходил в час ночи. Родионову надо было еще собрать вещи, попрощаться с товарищами и хозяевами квартиры, но, как назло, Лебединцев останавливался около каждого дома, подолгу беседуя с жильцами.
Сержант переминался с ноги на ногу, поглядывая то на смуглое от загара лицо Лебединцева, то на ручные часы, циферблат которых светился в сумерках.
— Дождь будет! — проговорил сержант первое, что пришло на ум, чтобы поторопить старшину.
Старшина вскинул голову, придерживая фуражку за козырек, и долго, сощурив строгие серые глаза, смотрел вверх. Догоняя друг друга, с востока на запад, где еще светился краешек неба, мчались разорванные облака. Они то совсем застилали небо, то расходились, открывая звезды.
Лебединцев наконец взглянул на сержанта:
— Куда теперь?
— Домой, — неуверенно ответил сержант.
— Ну, раз все осмотрели…
— Одно домовладение осталось. Километра два туда, немощеной дорогой… Вы бы завтра сходили.
— Давай, как положено, — нахмурился Лебединцев. — Ты сдал, я принял.
Сержант с сожалением взглянул на свои начищенные до блеска сапоги и шагнул вперед. Грязь захлюпала под ногами. Ветер дул в лицо. Он пытался сорвать фуражки, вытягивал из-под пояса гимнастерки и надувал их горбом на спине.
— Ведмячье место! — пробормотал сержант, остановившись закурить у забора с навесом. — Раньше улица была, в войну спалили.
— И не строится?
— Да нет… Парк запроектирован. Только какой же тут парк! Сами видите — ветра. Человек не выдерживает, не то что дерево.
Дальше шагали молча. Редкие фонари освещали лужи, за которыми темнел бесконечный забор. Впереди мелькнула и стала приближаться высокая тень.
— Сержант? — окликнул хрипловатый голос.
— Он самый.
— На ловца и зверь бежит, — продолжал человек, окликнувший Родионова, платком стирая с разгоряченного от быстрой ходьбы лица капельки водяных брызг. — Происшествие произошло…
— Будь добр, старшине докладывай, Дмитрий Павлович.
— Старшине? — близоруко щурясь, переспросил говоривший. — Будем знакомы — управдом Карагинцев. Происшествие произошло шесть часов назад. У Рыбакова стекло в окне выбили. Я уговаривал: «Заявим, Петр Варсонофьевич, завтра утром». А он ни в какую. Говорит: «Пока представители власти не прибудут, никаких мер не приму. Пусть всю комнату зальет».
— Кто разбил? — нахмурился старшина.
— Муромцевы — Сева с Савкой.
Лебединцев и Родионов зашагали вслед за управдомом к высокому зданию с ярко освещенными окнами, высящемуся за поворотом пустынной улицы.
Комната Петра Варсонофьевича Рыбакова представляла собой бедственное зрелище. В разбитое окно врывались водяные потоки. Ветер расшвырял все, что мог. Придавленная лампой скатерть полоскалась по ветру, как парус, сорванный с мачты.
— Смотрите! — проговорил хозяин. Он сидел в глубоком кресле, закутав ноги шерстяным пледом. — Я, товарищ сержант, предвидел это событие…
Рыбаков сделал движение, будто хотел приподняться с кресла, но не поднялся, потому что на коленях спал огромный рыжий кот.
— Вы к старшине обращайтесь, товарищ Рыбаков. Он теперь участковым.
На этот раз Рыбаков счел необходимым встать. Кот соскользнул с колен и, свернувшись на полу, сонно замурлыкал.
— Петр Варсонофьевич Рыбаков, — представился хозяин квартиры, — местный житель и начальник городского парка. Будучи человеком откровенным, прямо заявляю: смене руководства рад. Сержант твердости не проявлял, а твердость — она основа…
…Петр Варсонофьевич Рыбаков поселился в Степном три года назад и с тех пор все мечтает перебраться в краевой город, где он жил раньше, а может, даже в столицу. Это человек лет пятидесяти — что называется, пожилой, но не старый. Лицо у него полное, с тугими, тщательно выбритыми щеками. Снизу оно завершается маленьким подбородком, покрытым редкой белобрысой растительностью.
В краевом городе Рыбаков заведовал парком культуры и отдыха и был оттуда уволен, как он говорит, за то, что со всей твердостью боролся с безнадзорниками. По некоторым же другим сведениям, дошедшим в Степное окольными путями, его сняли с этой должности после того, как он привел в запустение парковый детский городок.
В Степном Рыбакову не понравилось с первой минуты. Парк только называется «парком»: ни ресторанов, ни киосков, ни гуляющих. На самом деле это пустырь. Старых, укоренившихся деревьев совсем нет; прутики молодых посадок трепещут среди лета на ветру желтеющими листьями.