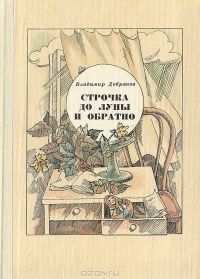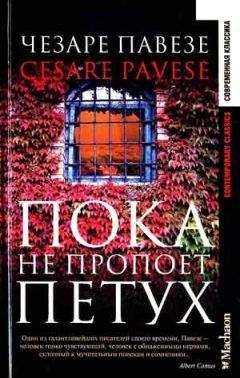Я уселся на доске песочницы и, достав из кармана зеркальце, навел светлый круг на балкон Киры. Если она в комнате, то должна увидеть. На потолке будет свет.
Все правильно я подумал. Через несколько секунд на балконе появилась Кира. Я помахал рукой. Она постояла, постояла и ушла. А теперь я не понял, что бы это значило? Выйдет? Но в ответ она не помахала. Или не хочет разговаривать?
Она долго не показывалась. И я не отступаю, навожу зеркало, дрожит на ее балконе светлое пятно. Опять вышла она. Я опять — рукой. Она, кажется, пожала плечами. Ушла. Что это значит? Все-таки решила спуститься?..
И верно: теперь я увидел ее в дверях подъезда. С крыльца спускаться она не стала. Я быстро подошел, взбежал на ступеньки и сказал:
— Здравствуй, Кира!
— Здравствуй. — И ничего не шевельнулось в ее лице.
— Я к тебе пришел, — сказал я.
— Вижу.
— А разговаривать со мной ты не хочешь?
— О чем?
— Обо всем.
— Это с какой стати? — В ее больших серых глазах с чуть изогнутыми у носа уголками даже не проскользнуло усмешки.
— Кира, ты совсем-совсем не хочешь со мной разговаривать?
Она куснула верхнюю губу, изогнула ровную бровь с тысячью темных волосинок, но так ничего и не сказала.
— Кира, у вас чердак открыт? Там железная лестница должна быть.
Она пожала плечами.
— А в нашем подъезде чердак открыт. Кира, я сейчас побегу на чердак и вылезу на крышу.
Она наконец разжала губы.
— Зачем?
— Вниз прыгну.
Она посмотрела мне в глаза и усмехнулась.
— Серьезно говорю, — сказал я. — Прямо на асфальт упаду.
— Зачем? — опять спросила она и тут же с тревогой добавила: — Ты правда собираешься прыгнуть?
Из подъезда вышла женщина с ребенком на руках, но я даже не обратил на нее внимания.
— Думаешь — не прыгну?
— Петя, что с тобой? — вдруг сказала Кира и покраснела. — Тебе плохо, да?
Я лишь кивнул. Мне показалось, что могу заплакать.
— Что же ты ничего не говорил мне?
— Я говорил. Ты же помнишь?
— Да, правда, — сказала Кира. — Но я думала… А почему ты еще раз не пришел?
— Я пришел. Видишь.
— Да, пришел. А я думала — уже никогда не придешь.
Из дверей вышел малец с куском булки и внимательно оглядел нас.
— У тебя есть время? — спросил я. — Чего мы здесь стоим?
— А куда мы пойдем?
— Не знаю. Куда-нибудь. Идем?
— Да.
— А дома не надо сказать?
— Ничего. Мама с сестрой платье кроят. Ведь мы не очень долго?
— Наверно.
Мы обогнули дом и вышли на улицу.
Я не знаю, о чем мы говорили и куда шли. Просто шли вперед. А говорили обо всем, что приходило в голову, что вспоминалось. И о деде говорили. Кира сказала, что он очень понравился ей. И еще спросила, почему я раньше говорил, будто он смешной.
— Вообще он смешной, — подтвердил я. — Только не всегда. Знаешь, он хотел жениться, а невеста не соглашалась, боялась своего отца, так дед чуть с колокольни не прыгнул.
— А ты с крыши собирался! — засмеялась Кира и в ту же минуту стала краснеть. — Нет… я не то хотела сказать.
— Конечно, — кивнул я, чувствуя, что тоже краснею. Получилось: будто я — жених, а Кира — моя невеста.
— Мы ведь просто дружим, — сказала Кира.
— Ты мороженое любишь?
— Конечно. Осенью съела сразу два фруктовых и горло простудила. Ангина была.
— Тогда не куплю, — сказал я.
— И не надо!
— А у меня и денег нет!
Так, почти не глядя по сторонам, разговаривая, мы прошли до конца весь наш длинный проспект Энтузиастов, упиравшийся в другой проспект — Московский. На противоположной стороне его возвышался памятник героям Великой Отечественной войны — широкое развернутое знамя с высеченными из камня суровыми лицами бойцов, и впереди — женщина, опустившаяся на одно колено, со склоненной головой.
Перед памятником, на красноватой гранитной площадке, стоял почетный караул — две девочки в защитных гимнастерках с погонами и два мальчика с автоматами.
— Ты не стоял в карауле? — спросила Кира.
— Нет, — ответил я, рассматривая застывших мальчишек примерно моего возраста.
— А я стояла. В октябре. Дождь тогда начал накрапывать. А мы все равно стояли. Я почему-то все время о дедушке думала. Он никакой, конечно, не дедушка был. Ему только двадцать семь лет исполнилось, когда он погиб. Шестого декабря день рождения у него, а девятого, через три дня, погиб. В Сталинграде. Несколько писем его осталось. Я покажу тебе. Одно смешное такое. Не смешное, просто написано смешно. Как без обеда остался. Поставил котелок, а в него пуля попала. Взял ложку, смотрит, а борща и нет. Одна капуста на дне да свекла.
Постояли мы у памятника героям и пошли назад: Кира беспокоилась, что дома ничего не сказала.
И снова о школе говорили, я о дедушке рассказывал. А еще я спросил Киру:
— Сколько времени мы гуляем?
— Часа два примерно.
— И все время говорили, правда?
— Все время, — в подтверждение кивнула Кира.
— А если все наши слова в одну строчку написать, сколько было бы?
— Не знаю, — с удивлением сказала она. — Много. Просто не представляю.
— А еще вопрос. Ладно? Чем мы с тобой говорили?
— Языком, — ответила Кира. — Чем же еще!
— Так, да не так, — качнул я головой.
— А как?
Но о сердце говорить я постеснялся. Потом когда-нибудь скажу. И перевел на другое.
— А слышала пословицу: зубы да губы — два запора, а языка не удержат?
— Не слышала. Это дедушка твой так говорит?
— И бабушка тоже. Они с дедом сорок шесть лет прожили. Все никак не могли наговориться.
— Он очень интересно говорит. Хороший у тебя дедушка.
— Обожди, послушаешь, когда смешное станет рассказывать!
— Он тоже на войне был?
— Два года и два месяца. Осколок мины до сих пор в боку сидит. — Наш дом был совсем близко, и я спросил: — А гулять ты можешь теперь?
— Да. Римма еще полтора месяца пробудет.
— А завтра пойдем куда-нибудь? Помнишь, в кино собирались?
— Помню. Сто лет не была. А твой дедушка может пойти с нами?
— Спрашиваешь! Он кино больше всего любит!..
Мне так не терпелось увидеть деда, что выскочил из лифта и ключа не стал доставать — притиснул пальцем кнопку звонка и держал до тех пор, пока дверь не открылась.
— Что за пожар? — спросил дед.
А я прошел в комнату, повернулся на каблуках и говорю:
— С Кирой помирился. Гулять ходили.
— Гляди-ка! — удивился дед. — И кончик нашел?
— Что кончик! Весь моток размотал! Дед, мы два километра наговорили! Или даже три!
— Обожди с километрами, — сказал дед. — Кончик пусть ты и нашел, а моток, Петруша, еще путаный. И не один там кончик. — Он открыл ящик буфета и подал мне две толстенькие конфеты. — А еще и письмо тебе.
Я развернул листок: «Славный, верный рыцарь Петр Доброхотов! Как рыцарь смотрит на то, чтобы сопровождать даму сердца в универмаг? Мне нужно купить четыре метра голубой тесьмы. Гарантирую коктейль с вареньем. Таня».
— Что задумался? — сказал дед. — Тут, милый, в клубке этом путано-перепутано. Не гляди, что махонькая, да коготок у нее острый. Из-за таких глаз, мой хороший, короли-принцы голов лишались.
Я положил листок на стол и решительно сказал:
— То короли да принцы, а моя голова, дед, на месте пока.
На свободной половинке листка с письмом Тани я черным фломастером нарисовал тучу, а красным — маленький краешек солнца. Внизу написал: «Солнышко закатилось. Рыцарь подал в отставку».
Дед, внимательно смотревший на мою работу, с довольным видом потер руки:
— Ай да Петруха! Ай да орел! В ведерку, значит, ее? И конфеты не забудь.
— Конечно! Нужны мне ее конфеты!
Я опустил ведерко с запиской и конфетами на балкон пятого этажа, закрыл дверь и сказал:
— Дед, в кино завтра пойдем?
— А чего ж, хорошее дело. Люблю кино. А если комедия какая смешная — пять раз смотреть буду. Про Шурика в клубе у нас показывали. Три раза привозили, три раза смотрел. Когда, говоришь, пойдем, завтра?
— Сейчас газету из ящика принесу, посмотрим.
— Погодь, Петруха, — остановил меня дед. — А с кем пойдем?
— Втроем, — сказал я.
— И Кира, значит?
— Да, с Кирой.
— Ну и молодец! Вот ты бравый какой у меня! Орел! Весь в своего деда! Ну, беги за газетой.
1981 г.