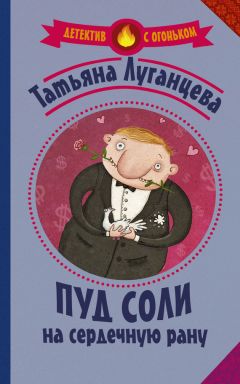Войдя в магазин, я пошла по рядам, снимая с полок и складывая в проволочную корзину нужные мне продукты. На выходе из торгового зала выложила их на стол, за которым, тыча пальцем в кнопки калькулятора (этот небольшой магазин еще не был тогда оснащен современным оборудование), сидела кассирша. Расплатившись, принялась я перекладывать покупки со стола в полиэтиленовый пакет, достав его из своей дамской сумочки. И только теперь, наклонившись над столом, заметила наконец, что на мне нет голубого платка, который ведь был, когда я пришла к Шейдиным, который, усевшись за стол, я повесила на спинку стула, стоявшего возле стола. Все это я очень хорошо помнила. Не настолько же я была пьяна, чтобы все это вылетело у меня из головы. Помнила я и то, что этой вещи моей не было на том месте, где я ее пристроила. И рядом с этим местом тоже не было. И вообще не было на виду моей косынки, когда я уходила из комнаты. Если бы она попалась мне на глаза, я, надевая на голову шляпу, накинула бы на плечи и косынку.
Мурашки побежали у меня по спине. Пробрал меня наконец страх. И догадалась я, что произошло. Роза пыталась подстроить мне каверзу, организовать наезд на меня этого фургона. Вот почему спровадила она меня из одной комнаты в другую. Вовсе не для того, чтобы я развлеклась, посмотрев веселую передачу «по ящику». Ей надо было с кем-то поговорить по телефону, да так, чтобы я этого разговора не услышала. По всей вероятности, с водителем этого фургона. И дать ему последние наставления. В сговор с ним она вступила раньше. В этот же день она должна была ему сообщить, во что я одета, чтобы он не принял за меня другую женщину и не сбил ее по ошибке.
Беседуя с шофером, она упомянула мою широкополую шляпу, которую видно издалека, мой голубой платок, концы которого, когда его повяжешь на шею, свисают на спину и грудь. Он следовал за мной, стараясь не выпустить из вида мою шляпу. А то, что на мне нет ни косынки, ни шарфа, заметил не сразу. Заметив, испугался, что чуть не сбил, кого не следовало, и резко затормозил.
Но куда же подевался мой платок? Ответ на этот вопрос может быть только один: Дмитрий убрал его с глаз долой.
Выбравшись на улицу и усевшись на стоявшую недалеко от входа в гастроном скамейку, я призадумалась. Почувствовав, что мать не в себе, и заподозрив ее в том, что она замыслила что-то неладное, он сосредоточил свое внимание на ней. Когда она, выставив меня из своей спальни, принялась набирать чей-то номер на сотовом, он, притаившись за открытой дверью, ведущей в комнату матери, подслушал ее беседу с неизвестным ему человеком. Вернее то, что она говорила своему абоненту. Когда она произнесла слово «платок», он смекнул, что к чему, и, улучив момент, унес его из комнаты эту мою вещь, чтобы я, уходя от них, не смогла надеть ее на себя, чтобы не случилось со мной ничего неожиданного. Что из всего этого следует? Вот что. Если все было именно так, как я себе представила, Дима, выступив против матери, возможно, спас мне жизнь.
Все теперь мне стало понятно: зачем она перед тем, как спровадить меня в другую комнату, выспрашивала меня, куда я пойду, распрощавшись с ними, Шейдиными, как обстоят у меня дела со зрением, какой глаз видит лучше, а какой хуже. Подозрительным теперь казалось мне и то, что она старалась меня подпоить. Все она учла, все продумала, лишь «слона не приметила»: выпустила из виду собственного сына, которого «измучила» своими капризами, придирками — своим деспотизмом. Поистине: «это было бы смешно, если бы не было так грустно».
Вернувшись к себе, я поднялась по деревянной, очень крутой лестнице на второй этаж своего дома, вернее, на чердак, где стояла раскладушка, застеленная покрывалом, свалилась на нее и долго лежала без движения, размышляя. Почему Роза такая? Судя по тому, как она хвалилась передо мной своим благополучием, можно сделать вывод, что всю свою жизнь она мечтала лишь о том, как бы его достигнуть. И очень сожалела, наверное, что ей ничего не досталось в наследство из того, чем владели ее предки по линии отца. И ненавидела тех, кто их раскулачил и расстрелял, — советскую власть. Эту ненависть, само собой разумеется, внушили ей родители, рассказав о том, что приключилось с ее дедом-кулаком и его старшими сыновьями. В их доме, по всей вероятности, царил антисоветский дух. Она впитала его в себя, этот настрой. Школа, комсомол не смогли изменить ее образ мыслей, хоть она и была активистка, вернее, прикидывалась ею. Родители, надо полагать, внушили ей и то, что высказываться против советской власти нельзя. Она и не высказывалась. Разговорилась уже после того, как перестали преследовать за антисоветскую пропаганду, когда советская власть перестала существовать и на смену социализму пришел капитализм. Одним словом, после перестройки. И что только она теперь ни болтала об этой, ушедшей в прошлое системе, забыв о том, что социализм дал членам ее семьи, чего только можно было пожелать. Отца Розы никто не преследовал за преступление, совершенное его отцом. Окончив какое-то учебное заведение (мне не известно, какое именно), стал учителем, потом, неуклонно поднимаясь по служебной лестнице, в течение всей жизни, сделался заведующим районо. Это высокая должность, если учесть, что образование у него было не выше, чем у подчиненных ему учителей. Розина мать, тоже педагог, работала так же, как и ее муж, не рядовым преподавателем, а завучем в школе, а это, как говорится, «две большие разницы». Старшая Розина сестра получила высшее образование, обучаясь бесплатно (лишь теперь, после перестройки, мы узнали, какое это благо). И Роза получила высшее образование. Жили они сперва в квартире при школе, директором которой был глава их семьи. Позднее ему дали двухкомнатную квартиру. Не купил он ее за деньги, а получил. Какое это благо — получить, не потратив ни копейки, квартиру, мы тоже выяснили только теперь. Именно эта квартира досталась Розе с Владимиром. Она, Роза, тоже сделала карьеру. Постаралась, скрывая свои истинные взгляды, проникнуть в верха, приобщившись к власти. Какое-то время работала в педагогическом училище, наконец — в городской администрации, куда устроилась она, как мне кажется, при содействии горотдела КГБ. Чем она там занималась? Бумажки перекладывала с одного стола на другой. И добавку к пенсии зарабатывала. Если бы с нею не случилось несчастье и не назначили бы ей повышенное пособие как инвалиду I группы, и тогда ее пенсия по старости была бы гораздо больше моей. Я, занявшись творчеством, ушла из школы на пенсию по выслуге лет, повторяю, в 52 года. Она — в 62, а то и поздней. В городской администрации, ни за что не отвечая, можно околачиваться и до 70 лет. И в педучилище тоже можно работать уже в пенсионном возрасте. А в общеобразовательной школе — нет.
Дожив до 55 лет, Роза с удовольствием продолжала бы трудиться в педучилище, но ей предложили уйти. Я спросила ее, почему. Она ответила: «Пришлась не ко двору». Пояснять, что она имеет в виду, подруга не стала. На эту тему я беседовала с одной женщиной, которая служила завучем в том самом училище и как раз в то время, когда там работала Роза. На интересующий меня вопрос она ответила так:
— Учительница эта слишком важничала. Смотреть на нее было неприятно. Я посещала ее уроки. Они были не плохие, но и не лучше, чем у других. И не стоило задаваться.
— Но она же, в отличие от других, окончила университет, — напомнила я собеседнице.
— Ну и что? — возразила мне бывшая завуч, — у всех наших словесников уже тогда было высшее образование. А кто где его получил, не имеет значения. Диплом у нее обычный, не красный. Так что нечего было гнуть из себя...
Чувствовалось: не зря горячится бывшая розина начальница. Много, наверное, было стычек у нее с этой строптивой подчиненной...
Я не стала, выслушав собеседницу, ни поддакивать ей, ни возражать. И вот какой сделала вывод: администрации педагогического училища, невзлюбившей эту преподавательницу за плохой характер, очень хотелось бы, наверное, гораздо раньше избавиться от нее под каким-либо благовидным предлогом, но сделать это не позволяли существовавшие при социализме законы. А теперь, при капитализме, попробуй кто-то из работающих не на государственном, а на частном предприятии, проявить неуважение к хозяину, тотчас лишится места. И не к кому будет пойти пожаловаться. Все это она видит и прекрасно знает, и, тем не менее, взахлеб ругает ушедший в прошлое социализм. А за что она меня ненавидит? Думаю: за то, что не разделяю ее убеждений, не вторю ей, когда она начинает «выступать». Презирает меня за то, что в жизни я довольствуюсь малым. А это ведь чисто по-советски. Недовольна она и тем, что я эти свои отсталые, как она считает, мнения выражаю в книгах, которые издаю, которые, скрывая это от меня, она читает по интернету.
Приходить к Розе я перестала. Уяснила наконец, что даже неизлечимо больной, прикованный к постели человек может быть чрезвычайно опасен для окружающих его людей, если у него имеются деньги, телефон под рукой, а совести ни на грош. Трудно сказать, какую именно цель преследовала она, натравливая на меня водителя того огромного грузовика. Одно бесспорно: это ее рук дело, так как слишком странно вела она себя в тот слополучный день и накануне. Докатилась, как говорится.