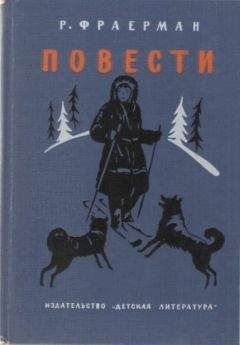— Таким же глупым, хотела ты сказать? — заметил Ваня и рассмеялся.
Смех его оказался звонким, веселым и чистосердечным.
И, услышав этот смех, Галя улыбнулась в темноте.
Она спросила его, давно ли он с фронта и надолго ли приехал домой.
Он ответил коротко: что вчера еще был в сражении и отпущен домой ненадолго — отдохнуть и повидаться с матерью. Он прилетел только утром.
— Ты вчера был в бою? — с восторгом и с невольным страхом воскликнула Анка. — Ты счастливый, Ваня! А мы всё здесь.
— Да, — сказал он, — вчера я еще был в бою. — И добавил задумчиво: — Это хорошо, что вы здесь. К кому бы мы вернулись, если бы вас не было?
Он замолчал.
Замолчала и Анка, глядя блестящими глазами на смутную фигуру, стоящую у самой решетки дворца.
Галя подождала немного. Должен же он рассказать о войне и о том, что он видел и знает, и, наверное, расскажет сейчас о своих собственных подвигах.
Но он все молчал. Он не хотел говорить о войне. Странный мальчик, почти такой же молчаливый, как этот самый гипсовый мальчик, что вечно запускает в небо свой деревянный планер.
«Что это — гордость, или, может быть, что-нибудь другое, или, может быть, он считает нас теперь недостойными слушать его рассказ?» — подумала Галя.
И как прежде, когда Галя улыбнулась ему в темноте, так сейчас она в темноте нахмурилась.
Нельзя же так долго стоять здесь у ворот и молчать…
— Как ты увидел нас? — спросила она.
— Я узнал вас издали и пошел за вами. Я тоже шел посмотреть на наш дворец. Он снился мне там иногда, в моей землянке. Возьмет да приснится мне в землянке. Я целый день хожу сегодня по городу, смотрю на все, что оставил, и всем говорю: «Я жив, здравствуйте».
— Ах, всем ты говоришь «здравствуйте»! — сказала Галя.
— Нет, нет, — поспешно заметил он. — Вы, наверное, не так меня поняли. Это совсем не то.
— Конечно, не то, — сказала Анка. — Я тебя отлично понимаю. Это очень интересно. Увидишь знакомое дерево, или дом, или комнату, или старый задачник, по которому ты решала задачи, и скажешь им: «Здравствуйте, мои друзья!» А они все такие же, и только ты один изменился. Правда, Ваня?
— Правда, Анка. Это очень приятно — увидеть вдруг старое. Очень приятно и даже страшно немного.
— А почему же страшно? — с любопытством спросила Галя.
— Почему — я не знаю. Нет, это даже не страшно, не то я говорю. Но когда я подъезжал к нашему городу, у меня так сильно билось сердце, как не билось оно у меня никогда. Я здорово волновался, — простодушно сознался он. — И мне казалось, что даже камни на мостовой должны узнать меня и сдвинуться с места, и бежать за мной, и кричать всем встречным: «Ваня с фронта приехал! Смотрите же, смотрите на него! Он два танка подбил у немцев!» Но все было спокойно. Камни лежали на месте. Потом меня остановил патруль и сделал замечание, потому что не полагается офицеру носить свой мешок за плечами. Потом меня толкнул прохожий, и я сказал ему: «У нас на фронте убивают, но не толкаются». Зачем я ему это сказал, не знаю. Потом я целовал свою мать и вытирал ее слезы. Потом я пошел смотреть места, где я учился. Потом увидел вас… Я увидел тебя, Анка, и увидел Галю, которая всегда была лучше нас всех. И я побежал за вами, как маленький мальчик, и сердце у меня все так же сильно билось, словно я бежал в атаку или словно можно вернуть хотя бы один день из моего ушедшего детства. Вы не сердитесь на меня, что я вас немного задержал?
— Что ты, Ваня! — крикнула Анка, растроганная. — И ты бежал за нами? А мы ничего не знали! Ты хочешь, я для тебя что-нибудь сделаю? Хочешь, я зашью тебе шинель? Хочешь, я выстираю тебе гимнастерку? Она у тебя, наверное, грязная.
— Она у меня чистая, — сказал Ваня.
И Анка, остановившись и подумав над своими словами, громко рассмеялась.
Ваня тоже смеялся.
Только Галя ни разу не улыбнулась и с какой-то странной задумчивостью слушала его простодушную речь и звонкий смех. Тот ли это самый мальчик, который чинил ей карандаши, которого она никогда не замечала в классе?
— Ты, наверное, плохо помнишь меня, — сказал он Гале. — А я всех вас помню. Там, на фронте, всех помнишь. Ты, наверное, теперь получишь золотую медаль.
— Конечно, получит, — поспешила ответить Анка.
Гале стало страшно на мгновение. И ей захотелось убежать. Но Ваня спросил вдруг:
— Можно мне с вами пойти?
— Я иду на кружок, — ответила Галя.
— В каком ты кружке сейчас?
— В театральном.
— Ты все в театральном кружке? — как бы с удивлением спросил он.
Уж сколько раз в последний год слышит она этот вопрос!
— А разве плохо, — сказала она, — что я придерживаюсь в жизни однажды выбранной цели?
— Нет, это хорошо, — сказал он. — Я только слышал, что стать актрисой или актером трудно обыкновенному человеку.
— Но Галя вовсе не обыкновенный человек! — воскликнула Анка со всей своей горячей искренностью.
— Ах нет, нет! — в волнении заметила Галя. — Анка совсем неправа. Я хуже обыкновенного человека. Я это знаю. Я только думаю: почему стать актрисой труднее, чем кем-нибудь другим, чем летчиком? Я помню ты учился вместе с Анкой в авиационном кружке, и вот ты стал летчиком.
— А я, например, не стала летчиком. В самом деле, это странно, — с удивлением сказала Анка.
— Да, — подтвердила Галя, — почему это? Как ты достиг того, чего желал?
Галя сказала это тихим голосом, пытливо глядя прямо перед собой, прямо в темноту, стеной стоявшую за решеткой.
Ваня задумался, словно впервые услышал этот вопрос. Он совсем не думал о нем, когда хотел стать летчиком.
И сейчас он ответил, немного помедлив:
— Я не знаю, как я этого достиг. Я решил это давно, у этих самых ворот, в этом самом доме. Я не сразу стал летчиком. Я чуть не попал в артиллеристы. Но я желал и действовал. Может быть, действовать — самое главное в жизни. Действовать! — повторил он, найдя наконец нужное слово. — Действовать! Может быть, это и есть воля, которая двигает нас к цели через всякие препятствия.
— А нет такой воли… к бездействию? — спросила Галя, немного подумав.
Ваня покачал головой:
— Нет. Тогда это не воля. На войне я это хорошо понимал. И я буду конструктором, — сказал он твердо. Затем добавил не совсем твердо: — Если меня не убьют.
Анка в невольном движении протянула к нему руку в темноте.
— Зачем ты говоришь так? Это невозможно! Тебя не могут убить. Никто из нас не может умереть, Ваня, мы живы и будем вечно жить! — сказала она вдруг с глубокой и прелестной верой в бессмертие человека и в свое собственное бессмертие.
То был ее голос внутренний — чувство вечности жизни, что существует в каждом человеческом сердце, пока оно юное, и дает ему, вопреки всем другим доводам, чудесную надежду, что мертвым оно быть не может.
Ваня тихонько рассмеялся. Потом добавил задумчиво:
— Значит, ты, Галя, по-прежнему хочешь стать актрисой? И ты, Анка, состоишь в этом кружке?
— Не говори мне ничего! — воскликнула с горечью Анка. — Если я когда-нибудь и умру, то это случится, вероятно, в тот момент, когда я буду выбирать себе профессию. Я всегда так волнуюсь при этом, что никогда не знаю, чего мне хочется в жизни. И кончится это, вероятно, тем, что я получу в аттестате одни тройки, и мне останется только поступить в зубоврачебный техникум.
— А просто жить из вас никому не хочется? — спросил он вдруг так же тихо и так же пытливо, как спрашивала Галя.
Они не поняли его.
— Как это можно хотеть просто жить? — удивилась Анка. — Разве есть такие люди?
— На войне есть такие люди.
— Что значит — просто жить? — спросила Галя.
— Это значит — не умереть.
— То есть бояться смерти, — сказала Галя с презрением. — Но ведь тогда это трусы.
— Это не трусы, — сказал Ваня, покачав головой. — Жить на войне — не значит бежать от смерти. А это значит — наступать на смерть, поворачивать ее к себе спиною. Солдаты знают это, когда идут в атаку. Это очень трудно и тоже требует воли, такой высокой, что она поднимает человека до самых легких облаков и проносит его выше смерти, и выше всякой боли, и выше всякой мысли о себе. И тогда ты побеждаешь.
— Это, значит, победа? — сказала Галя.
Он кивнул головой.
Галя подошла к нему ближе и спросила:
— И ты знаешь это?
Он пожал плечами и сказал:
— Не я один, на войне все знают это. Мне очень неловко. Я, кажется, много болтаю, и это совсем неинтересно. Вероятно, все, кто приезжают с фронта, много говорят.
— Нет, это очень интересно, — сказала Галя.
Она больше ни о чем не спросила.
Многоголосый шум доносился из глубины затемненного дворца. Там верещали станки, там пилили, точили, лепили фигуры, писали стихи.
А что они должны делать? Как самым верным образом из множества желаний, влекущих тебя, выбрать в жизни самое верное, чтобы никогда потом ты не назвала нелюбимым свой труд? Кто мог им это сказать?