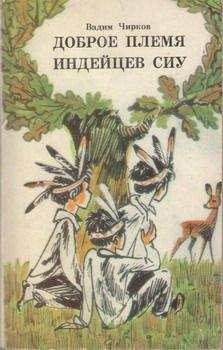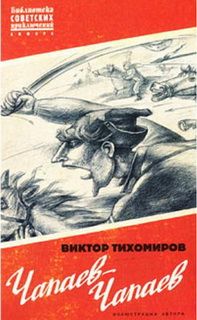— Я не долю-у, — пронзительно запел поп. — Я тут у-умысел вижу!
— Что он тебя по площади погонял? Так то ж бык! Кто его знает, что у него на уме, у быка-то! Да и кто сейчас скотиной рисковать станет? При такой-то власти! — Митька хлопнул ладонью по прикладу карабина.
— Это не Афанасия умысел — сына его, вот чей! — крикнул поп.
— Сын-то его болен лежит, — подала голос тетка Мария, Мишкина соседка. — Вот скотина без присмотра и оказалась. Ты, отец, не гневайся понапрасну, не горячись. Да и гляди — время: уже храм открывать…
От отца Мишке, понятно, влетело. Так влетело, что лучше и не рассказывать.
Но разве не суждено было быку умереть этой осенью? На полмесяца раньше погиб Бужор, зато как героически!..
Все учел в этом деле Мишка. А что от отца попадет — на это закрывал глаза: уж больно был заманчив замысел — увидеть корриду с Гитлером на рогах.
Город для Аленки (рассказ о маме)
Мама у Аленки гример. Она работает в театре.
Каждый гример немного художник. Один больше, другой меньше. Каждый гример учился в театральном или художественном училище, рисовал, писал этюды, возможно, ему говорили, что у него есть талант художника. Или — что в нем пропадает талант художника.
Но гримеры чаще всего — скромные люди, и хоть они и верят, что в них есть (или пропадает) талант художника, за кисть берутся редко или никогда не берутся.
Разве что в крайнем случае.
Аленка заболела. Маме позвонили из школы на работу и сказали, что у Аленки высокая температура.
Аленка с мамой живут вдвоем в однокомнатной квартире.
Третий день у Аленки высокая температура, третий день мама не ходит на работу.
А в этот вечер температура поднялась сперва до тридцати девяти, а потом и выше. Маме стало страшно. Как бывает страшно мамам, когда у Аленок тридцать девять и выше, не расскажешь. Ни пером, ни кистью.
Когда приехала «скорая», у Аленки было сорок градусов. Врач, осмотрев Аленкино горло, сказала:
— Страшного ничего нет, — лицо у нее было спокойное и усталое, — давайте ей пирамидон с анальгином — это сбивает температуру. И компрессик на лоб. А мы сделаем укол…
Двое молодых санитаров стояли в дверях и смотрели на Аленку, на маму, на комнату — на парики на стене, на букет желтых кленовых листьев в вазе. Они за ночь бывают в десяти, наверное, квартирах и всё у разных людей. Им интересно смотреть, как живет тот или другой. Кто шофер, кто писатель, кто продавец, кто директор, а кто, может, и просто пьяница.
Потом они все ушли, и Аленка и мама снова остались одни. Аленка пылала. Она сама чувствовала, как у нее горит лицо. Странно только, что ничего не болело да и лежать ей не хотелось. Она даже не понимала — что страшного в температуре сорок. Наоборот: ей хочется разговаривать, играть… Хочется поговорить с мамой о враче, у которой из-под белого халата выглядывало такое старенькое пальто. И почему сразу три золотых кольца? И почему она прошла в комнату, не сняв в прихожей сапог? Ведь все снимают…
— Молчи, Аленушка, молчи, — говорила мама, — помолчи хоть десять минут.
Аленка помолчала и ей захотелось спать. Она закрыла глаза. И тут же открыла, потому что у нее закружилась голова.
— Мама, — лампа!
— Что, девочка?
— Лампа качается… ой! — Аленка заплакала.
— Что, родная, что с тобой? А? Ну говори же!
— Паук! — закричала вдруг Аленка. — Я боюсь! Убери его! — Она смотрела на потолок: пауки были ее постоянным страхом.
Аленка бредила.
Потом она, кажется, ненадолго потеряла сознание, очнулась, открыла глаза.
— Мама, — город, — сказала она, показывая на стену.
Мама снова испугалась.
— Нет, девочка, нет.
— Город, — упрямо сказала Аленка, — смотри — город!
Мама посмотрела. После недавней побелки в стене появились какие-то трещинки, сплетение линий.
— Вон дом — смотри, а вон башня, — показывала пальцем Аленка.
Мама увидела и дом и башню. Аленка была в сознании. Дом и башня были из тридевятого царства.
— А во-он еще башня, — показывала Аленка. — А прямо перед нами — дом. Большой, красивый… Мама, — такой город!
— Аленушка, давай компрессик сменим? Повернись на спинку…
— Я хочу смотреть на город.
— А спать ты не хочешь?
— Я боюсь… Мама, покрась вон ту крышу, вон — видишь?
— Как — покрась? Чем?
— Красками, мам, покрась.
— Но ведь это же стена, девочка…
— Ну и что? Это город, город! — Аленка перевела глаза на маму; глаза наполнялись слезами.
— Ну хорошо, сейчас, только дай я сменю компресс…
Краски у Аленки были хорошие — «Нева», в тюбиках. И кисти тоже — мама купила их в художественном салоне.
Мама приготовила воду, вырвала лист из альбома для рисования, взяла коробку с красками…
— А какого цвета крыша?
— Мам, я не знаю… красная. Скажи сама. Какую хочешь. А другую сделай зеленую.
— Где крыша?
— Вон — разве ты не видишь?
— Я буду рисовать, а ты пока поспи, ладно?
— А ты меня разбудишь, когда нарисуешь?
— Конечно, девочка, ты только спи.
Аленка закрыла глаза.
Мама выдавила из тюбика краску, другую, обмакнула кисть в воду…
В самом деле — целый город. Как это она раньше его не заметила? Крыши, стены, окна, улицы, деревья — рисунок был. С чего начать?
— Мам, ты рисуешь?
— Рисую.
Мама наклонилась и тронула краской крышу.
— Рисую, девочка, ты — спи.
Похоже было, что город, чуть видный в предутренних сумерках, серый еще и прозрачный, раскрашивается восходящим солнцем, — это сравнение пришло на ум Валерии Александровне, когда она покрыла скат крыши розовой краской; Оно подсказало ей, каким должен быть город: раннеутренним.
Аленка спала тяжело: дышала неровно, часто, стонала, ворочалась, всхлипывала. Потом проснулась.
— Мама, паук! Паук!
И вдруг увидела город.
— Какой красивый. Мама, рисуй!..
Мама сменила компресс, измерила температуру: тридцать девять. Дала таблетки.
— Мама, рисуй!
— Буду, буду, а ты закрой глаза.
— Хочу смотреть.
— Поспи немного, а когда проснешься, он будет еще лучше.
— Я хочу смотреть.
Аленка не была капризной девочкой, но она была больна.
— Но, девочка, ты же знаешь, что художники не любят рисовать, когда на них смотрят. И потом, пусть это будет как в сказке, помнишь? — за одну ночь был готов дворец. Ты закрой глаза, а когда откроешь, будет целый город. Договорились?
— Да, — сказала Аленка. Она устала от разговора. Губы у нее обметало.
Работая, Валерия Александровна увлеклась. Аленка спала.
Город уходил в глубь стены. Над ним голубела полоска моря. Над морем всходили горы розовых облаков.
Прямо у пола начиналась булыжная мостовая.
Город, заметила вдруг Валерия Александровна, получается очень тихий. В нем слышно только Аленкино дыхание. Валерия Александровна обрадовалась, когда отыскала в нем еле заметный контур человека на улице. Она тронула его кистью, раз-два — человек пошел, шаги его отдавались в стенах домов.
— Мама, это кто? — Аленка опять проснулась.
— Человек. Ляг, Аленушка, тебе нужно еще поспать.
— Он идет к нам… Мама, а он кто?
— Ну… врач. Это врач, девочка.
Аленка задумалась.
— Нет… Опять таблетки пить, И уколы. И врачи приезжают на машине. Пусть это будет не врач. Пусть это будет лучше дядя Даня.
Дядя Даня был их с мамой знакомый. Больше Аленкин, чем мамин.
— Пусть, — согласилась мама. — Это будет дядя Даня, лежи, Аленчик, поспи еще, солнышко…
Аленка уснула (надолго ли?), и Валерия Александровна снова осталась как бы одна в комнате. Было тихо, тикали часы. Шел пятый час ночи. Валерия Александровна, чувствуя усталость, села — впервые, показалось, за ночь. Стала смотреть на город.
Моментами ей представлялось, что маленький и привычный мирок их комнаты исчезает и она стоит на каком-то высоком балконе и смотрит на город перед ней. Она и стояла когда-то на таком балконе и смотрела на город, — сейчас это почти уже забытое маленькое событие вспомнилось.
Она тогда училась в театральном училище, была худой некрасивой девчонкой (красивее-то она, правда, и не стала) и на высокий балкон попала вместе с хорошенькой своей подругой Иркой, за которой ухаживал парень, хозяин квартиры с этим балконом.
Дом был «старый» — с мраморными полуосвещенными лестницами и дубовыми перилами, с высокими дверьми и лепными потолками комнат, с изразцовыми печами и камином, с темным выщербленным паркетом, с тусклым светом большой старой люстры.
Дом стоял в толпе таких же старых домов и старых высоких деревьев; оранжево и желто светились высокие окна; на глухом стене одного из домов было небольшое окно, которое притягивало к себе какой-то грустью, — той, что возникает, когда представишь там человека, похожего на себя, или когда читаешь Андерсена. А потом ей показалось, что эти высокие дома сродни чем-то старым книгам с пожелтевшими страницами…