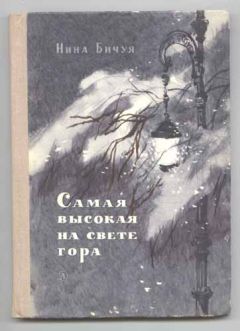Мальчик стоял возле матери — маленький, бледный, давно не стриженный и потому немного похожий на девочку. Он недоверчиво смотрел на доктора — этот высокий, широкоплечий дяденька, должно быть, шутил, он ведь никакого экзамена не сдавал, а лежал в больнице; с тоской думалось, что нельзя будет играть в футбол, бегать, прыгать. А что же тогда можно?
До самой зимы он был послушен и покорен, глотал какие-то лекарства, ходил на кварц и каждое утро просыпался с надеждой: «А вдруг прошло?» Надежда рассеивалась, стоило спустить ноги с постели и сделать первый шаг. Ноги стали худые, тоненькие, как две жердочки. Славко как можно скорее надевал штаны, чтобы не видеть своих ног.
Началась зима. Лужи затянуло тонким ледком, а потом ударил настоящий мороз, и мальчик больше не выдержал муки послушания. Он надел башмаки с коньками. Ноги подгибались, не слушались, разъезжались. Славко прикусывал губу, стоял с минуту, зажмурясь от боли, а потом все-таки шел. Он выбирался из дому украдкой, чтобы никто не видел, возвращался совсем без сил, а на следующий день снова шел на лед. Сперва около дома, поближе, потом — в парк и, наконец, на каток.
Ноги окрепли, мышцы пружинили, и уже не приходилось все время думать: как хорошо большим и сильным — их не толкают…
Потом мама никак не могла поверить, что мальчик сам себя вылечил.
— Хорошо, что я не знала о его упражнениях на льду, — сказала она папе, — я отобрала бы коньки, и кто знает, мог ли бы он сейчас бегать.
Однако не всегда бываешь победителем. Не решались задачи по арифметике — подмывало списать у Юлька Ващука. Не запоминались стихи, и как же утром не хотелось вставать и отправляться в школу, а потом исподлобья посматривать на учительницу: вызовет — не вызовет, спросит — не спросит… и думать при этом: «Хорошо Юльку, всегда он все знает!»
Юлько умеет рисовать, хорошо рисует. Славко попробовал — не выходит у него.
— Жаль тратить бумагу, — смеялся папа, — попробуй лучше вырезать самолет. Вот тебе дощечка, нож — попробуй вырезать два крыла, хвост, пропеллер. И никогда не старайся делать что-нибудь потому, что это делают другие. Свое ищи.
Свое найти нелегко. Как отличить его среди бесчисленных вещей и дел, которые захватывают, влекут, а потом вдруг перестают нравиться? Мальчики хватаются за все интересное и не чувствуют, что время уходит, они обращаются с ним свободно, как со своей собственностью.
Но однажды Славко вдруг ощутил бег времени.
Он шел с мамой вверх по улице Мицкевича. Слева — парк, там карусель и в клетке павлин со сказочно красивым хвостом. Справа — детский сад, куда когда-то ходил и Славко. Он вдруг остановился у палисадника. Смотрел на яркие грибки в полоску, на пожелтевшую истоптанную траву, на струйку воды, льющейся из черного, свернутого в бухту шланга, — после захода солнца будут поливать цветы. Все выглядело точь-в-точь так же, как раньше, когда Славко ходил сюда. Замурзанная девочка склонила набок головку и показала ему язык — мальчик не улыбнулся; он вдруг притих, он не находил ни одного знакомого лица там, где еще недавно знал всех.
— О чем ты думаешь? — поинтересовалась мама.
— Сам не знаю… Детского сада больше не будет, — то ли спросил, то ли определил он. Раньше ему не приходило в голову, что чего-то может больше никогда не быть.
Он думал об этом и позже, но уже значительно отчетливее и сознательнее. Они были всем классом в природоведческом музее. Славко увидел мамонта. В деревянной клетке стоял скелет, прикрытый темно-серой, как будто просмоленной шкурой, но Славку представился живой мамонт. Грустный и задумчивый, он покачивал хоботом — осторожно, чтобы не развалить деревянную клетку, которая мешала ему пошевельнуться; на белой бумажке значилось: «Мамонт». И по-латыни: «Элефант». Мамонту, верно, было обидно, что к нему прицепили этикетку.
Мальчик не спешил дальше вместе со всеми к орлам и совам, набитым опилками, и к метеоритам, найденным в конце прошлого столетия. Он положил портфель на ступеньку, сел рядом и долго смотрел на то, что осталось от величественного, могучего животного, и виделось ему нечто древнее, непонятное, которое когда-то было подвижным, живым, сильным, а потом пропало, исчезло, и вот — нет его. Славко побывал в музее еще несколько раз. Ему всегда говорили: «Мальчик, экспозиция начинается вот здесь, налево», — но он приходил только к мамонту. Иногда ему казалось, что мамонт поймет его, стоит только заговорить и рассказать ему о себе, но он никому не признавался в этих мыслях, потому что сам понимал: все это только его собственная выдумка.
Мамонта он забыл, когда началось фехтование. Впервые попав на соревнование шпажистов, Славко вдруг подумал, что видит настоящих марсиан, — такими удивительными показались ему спортсмены в белых костюмах и масках. А потом он увлекся. Все приковывало внимание. Соревнования закончились, спортсмены расходились, а Славко все стоял, переживая увиденное. Он знал с первого же вечера: без фехтования ему теперь не обойтись. И как тогда, когда осмелился натянуть на больные ноги тяжелые башмаки с коньками, понимал, что надо добиться своего.
На окраине, за углом последнего дома, свищет в два пальца озорной ветер, словно радуясь, что вырвался на волю из лабиринта узких и коротких переулков.
Девочка в синем сарафане моет окно. Стоит на подоконнике, на шестом этаже последнего в городе дома, и моет окно. А под ней плывет улица — аккуратная мозаика тротуаров, желтые спины троллейбусов, пестрые девичьи платья.
В вымытых стеклах повторяются облака, клочки неба, лоскут синего сарафана. Когда девочка двигает оконную раму, — небо, облака, сарафан — все колышется; от этого становится страшно, девочка кажется себе невесомой, как во сне.
Внизу прошли солдаты. Раз-два, раз-два. Зеленые плечи, черные сапоги на мостовой. Раз-два…
На белом мотороллере — коричневый негр…
На гнедой лошади — белокурый всадник. Стройный и сильный, даже сверху видно, как он строен, а лошадь так легко, так ловко переступает ногами, ну просто танцовщица на канате; она словно похваляется и всадником, и собственной живой красотой перед стенами, машинами и пешеходами.
На улице стоит мальчик, стоит и смотрит, как девочка моет окно; ему немного жутко, оттого что она висит над улицей, как ласточка в высоком гнезде, и хочется окликнуть ее: «Эй, Лили!» — и страшно спугнуть криком.
И потому он ждет, пока его наконец заметят. А потом машет рукой: не могла бы ты сойти вниз, Лили?
Внизу шелестит желтый осенний листопад. В парках горят костры — как будто сухая листва, вдруг сама вспыхнув, обернулась терпким дымом, и из этой сухой дымовой кудели выпрядаются мягкие нити бабьего лета. Мостовая сверкает на солнце, по ней текут трамвайные рельсы. Улица — как длинная сказка, которую можно рассказывать без конца.
На окраине — новые современные дома с разноцветными квадратами маленьких балконов. Середина улицы — девятнадцатое столетие: на заржавленном флюгере значится 1887 год, и утомленный, с напрягшимися мышцами атлант подпирает серую глыбу балкона. А если спуститься по улице вниз, к центру, попадешь в старый Львов, где узкие проулки напоминают прорубленные в горах туннели.
— «Се же король Данило, князь добрый, хоробрый и мудрый, иже созда городы многи, и украси е разноличными красотами…»
— Где это ты слышал, Юлько? — спрашивает девочка.
— Не слышал. Вычитал где-то. Слушай, Лили, тебе не кажется, что здесь, в старом городе, не мы одни ходим? Наши предки остались здесь навеки — невидимые, как духи.
… И город поплыл со склонов Княжей горы, как река, двинулся в долины к холмам, убрал их в камень.
Через черные ворота вступают на Рыночную площадь горожане в странных одеждах. В аптеке на Ставропигийской похожий на монаха аптекарь толчет в тяжелой медной ступке сухие травы. По улице катится на обитых железом колесах воз. До металлических ободьев додумались только в пятнадцатом веке. Первую аптеку открыли во Львове в семнадцатом. А газовые фонари перед ратушей зажигали еще даже после Отечественной войны, всего лет двадцать назад.
К валам рвались татарские лучники. Средневековые школяры, которые, может быть, еще час назад спокойно сидели, слушая проповедь мудрого ритора, или красивыми тенорами и молоденькими басками вытягивали за кантором — учителем пения — чистую ноту, теперь брались за оружие и шли защищать город.
Отправлялись в поход против немецких полчищ отважные воины, на их знаменах золотом и лазурью отливал городской герб, а в замке тосковала по отцу княжна-галичанка с прекрасным личиком Лили…
События перемешались в мальчишеском воображении, выдумка сплетала и связывала вместе всё, как название улицы соединяло старые и новые постройки.