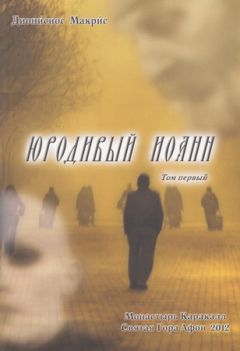«Мужики, вы нынче грибовницу-то хоть пробовали?»
Нет еще. А вы?»
«Мы-то отведали, да не один раз! Роса долой — и мы домой. Пойдемте-ка к нам — грибовницей угостим. А то, поди, забыли, какая она?..»
«Что верно, то верно».
А пение птиц все нарастало и становилось ярким, почти доступным глазу, и когда оно набрало силу, рыжая птица легко высвободилась из рук мальчика и, опахнув его лицо ветром крыльев, неожиданно хлестким, полетела к елям и скрылась в лесу.
Мальчик вскрикнул, выбросил руки ей вслед с надеждой поймать.
Да разве поймаешь?
Он увидел на груди своей кровь — птица оставила, — пожалел ее и мысленно пожелал ей счастливого пути.
Тут Сережа вспомнил про рубашку: где она?
Мальчик пошел обратно по своему прокосу, но, пройдя его весь, рубашки не обнаружил, на всякий случай заплакал и собрался с повинной пойти к дедушке, который, надо думать, за потерю по головке не погладит, а скажет в сердцах: «Разорение ты мое!»
Забирая воздух открытым ртом, приберегая самый рев для встречи с дедушкой, мальчик побрел обратно по прокосу и скоро увидел рубаху. Она белела в сторонке, в некошеной траве, куда, не глядя, он сбросил ее в разгар работы.
Слезы у Сережи разом высохли.
Он осмотрел рубаху. Она треснула у плеча по шву, и на ней не хватало пуговицы. Мальчик поползал на коленях, нашел пуговицу, спрятал в карман штанов, надел рубаху, еще влажную от росы, и несколько раз длинно-предлинно зевнул.
Ему хотелось спать, пить и есть одновременно, и он не мог понять, чего ему все-таки хочется больше. Какое-то время мальчик полежал в траве, сонно разглядывая кузнечика, что затаился перед носом Сережи, Мальчик попытался представить, как живет этот кузнечик, кого он любит, а кого нет и для чего он сотворен на земле. Осмыслить все это в наплывающей жаре было трудно, и человек нехотя поднялся и пошел на звонкие, как в кузнице, удары.
Дедушка отбивал косу. Лицо его было как после бани, красным и без морщин.
— Косу отбивать надо умельно, — поучал дедушка. — А то пучины получаются, волны…
«Неужели опять косить будем? — с тоской подумал мальчик. — Работе конца-краю нет…»
Сощурясь от солнца, Сережа стал отыскивать жаворонка в белесом небе, где пел сам струящийся воздух, а птицы небесной не было видно.
— Сынок, у тебя никак кровь? — забеспокоился дедушка. — Не порезался ли?
— Где?
— А вот.
Дедушка дотронулся до загорелой груди мальчика, где запеклась кровь таинственной рыжей птицы…
— Не моя это кровь, — сказал мальчик, пучком травы стер кровяную отметину с груди и опять стал высматривать жаворонка.
Где же он?
Между тем дедушка закончил работу, положил на плечо обе косы — большую и малую, и на их лезвиях, белых от работы, горячо заиграло солнышко.
Дед и внук шли домой по утренней вятской земле, и оба они покачивались от усталости.
Дедушка говорил:
— Раньше в сенокос все луга в бабьих платках да в рубахах мужиков да ребятишек. Что ты! Сейчас на большой праздник столько народу выходит, сколько раньше на сенокос. Косить выходили, как мы с тобой: часа в два ночи, при ясном месяце. А иначе сено пустое будет. Что ты, парень!.. Помню, я брал в жены девушку из дальней деревни. Сватался. По старинности при сватовстве я ее должен спросить: «У вас чем косят — литовкой или горбушей?»[3] А я знал, что у них горбушей только и косили. Да думаю: «Зачем я об этом невесту буду спрашивать? Зачем такую красивую девушку в краску вгонять?» Горбушей-то косить непочетно: ползком да внаклонку. И придумал я такой вопрос, что и сам удивился…
Что было дальше, дедушка не досказал.
Поперек пути лежала полая береза, та самая, которую когда-то поцеловала девочка Муза. По-видимому, она упала недавно, от старости, не задев ни одну из малых березок, правнучков своих, и древесина ее, сыпучая, как пепел, в каркасе лопнувшей черной коры пахла нестрашным древесным тленом.
Однако листья ее вовсю зеленели, еще не зная, что жить им совсем недолго, и расточали юный банный березовый запах!.. В этом было какое-то грустное, горькое достоинство старости, у которой вина-то одна, что она пережила всех и вся.
Да и какая это вина?
— Не знаешь, когда упадешь, — сказал дедушка. — Сюда мы шли, она еще стояла…
Сережа признался:
— Я не помню.
— Где тебе помнить, батюшкооо, — протянул дедушка. — Ты всю дорогу спа-аал…
— Да не всю-юю!
— Спорить не будем. На войне я много верст поспал на ходу. В ледяном болоте спал! Насилу меня, сонного, товарищи ото льда отодрали. А сейчас в теплой постели сон не идет: года!
— Да какие твои года, дедушка? — привычно утешил Сережа. — Ты нынче вон сколько травы накосил!
— Это-то есть! А от своих годов никуда не убежишь.
— Зачем бежать-то? Я вот молодой, а с твое ни за что не накошу!
— Тебе еще расти да расти, сынок!
— Буду.
— Будь, батюшко…
Они пошли дальше, оглядываясь на упавшую березу, что по земле разметала ветви свои, и одна ветвь, отломленная, лежала далеко в стороне и зеленела, прядая листьями. Невеселое предчувствие окололо душу Сережи, и мальчик старался забыть о нем, да не мог, пока они не вышли к ржаному полю.
Над рожью Сережа увидел солнце. Смотреть на него прямо было нельзя (жжется!), а краешком глаза можно. Солнышко играло, будто кто перекатывал его с ладони на ладонь, и отливало горячим светом — алым, золотым, иссиня-светлым, и игра его была веселая. Солнышко набиралось света для долгого-предолгого дня, и в нем переливалась, посверкивая, добрая силушка, сильнее которой нет да и не может быть никакой иной силы на свете.
— Ярится солнце. Играет! — похвалил его дедушка. — У него свой табель есть.
— Что? — не понял Сережа.
— Я говорю: у солнышка свой табель есть — оно всегда об эту пору играет.
— Ааа…
— А рожь-то как радуется!
По полю катился теплый ветер, и сквозное тело его поблескивало сизо-серебряным светом и звало в неизведанные края, где ветер живет и отдыхает.
Дорога изгибалась во ржи, и на повороте далеко отсюда из деревни Кукушки быстро шла женщина. Как ни зорок был мальчик, он не мог разглядеть ее лицо. По виду она была молодая, приезжая, издалека узнала их и, сорвав с головы косынку, замахала приветливо и несмело: я, мол, к вам и ни к кому больше!
— Никак к нам, — крякнул дедушка. — А кто, не разберу. Может, кто из города — на квартиру проситься? Если понравится — пущу.
Дедушка выпрямился, подобрался, а вместе с ним выпрямился и Сережа, хотя он не был сутулым. Придерживая на груди рубаху без пуговицы, мальчик старался рассмотреть и узнать женщину, что с косынкой в руке спешила к ним навстречу.
Кто она? Лидия Александровна?.. Или мама?..
Нет, не мама… Или будущая квартирантка, пока еще незнакомая?.. Или кто-то из местных — вестница радости или горя?
— Не узнал, сынок, кто? — спрашивал дедушка. — Не различил?
— Различу, — обещал Сережа. — Погоди маленько.
И всматривался в женщину с косынкой. Ветер мешал смотреть, высекал слезы, путал волосы, остужал под рубахой и не мог остудить крепенькое тело мальчика, покрытое вечным деревенским загаром.
Кукарка — старинное вятское поселение. С 1918 года — город Советск.
Котельнич — город на реке Вятке приблизительно в восьмидесяти километрах от города Кирова.
Горбуша — коса с короткой рукояткой, напоминающая большой серп. В некоторых деревнях применяется для обкашивания оврагов, кочкарников, кустов.