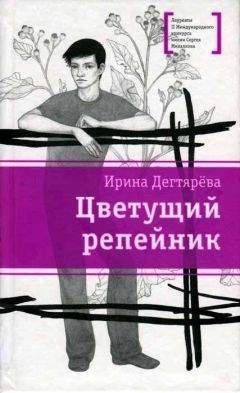— Ты не перестаёшь меня удивлять. Как ты себе представляешь меня — почтенного мужа, отца семейства — в грязных замшелых катакомбах, где бегают крысы и всякие другие существа?
— Само собой, в парадной форме и с твоей любимой трубочкой ты там не будешь смотреться. А вот в спортивном костюме очень даже.
Отец растерянно развёл руками.
— Ну, я не знаю. Это безумие, — отец прошёлся по комнате. — Разве что в выходные…
Милан подскочил, захлопал в ладоши и тут же застонал, ударив ссадины на ладонях.
— Ой, ой! — запричитал он.
— Вот тебе и «ой». Идём мазать твои раны.
— Па, а что это твоё начальство так расщедрилось? Два отгула? — Милан стоически терпел промывание ссадин перекисью водорода и даже ухитрялся разговаривать.
— Ты помнишь, я позавчера задержался? На входе в залив мы чуть не потонули. С грехом пополам до берега дотарахтели. А чтобы перепуганные инженера пришли в себя, им дали по два отгула, — отец подмигнул. — Ты только маме не говори.
— Это из-за твоих испытаний?
— Тонули? Нет. У нас-то всё хорошо прошло. А вот разгильдяйский экипаж чуть не утопил ценное оборудование и важных, но не отважных специалистов.
— А ты не отважный? — Милан морщился, но терпел.
Отец вздохнул.
— Кто его знает? Наверное, не слишком.
— Но когда вы начали тонуть, ты ведь не кричал, не плакал, не звал маму.
— Нет. Я был хмурым, сосредоточенным и так изгрыз трубку, что чуть не съел её всю. Внешне я был, как… — отец задумался. — Как наш сосед, капитан дальнего плавания, тот, что ходит весь в белом и выгуливает собачонку. Он всегда невозмутим, даже когда его собачка поднимает ножку на колесо чьей-нибудь машины. Зато я внутренне плакал и звал маму.
— Всё шутишь, — отмахнулся Милан.
Отец рассмеялся и побежал раскуривать свою любимую трубочку и возиться с чертежами и цифрами, без которых он не мог прожить даже во время отпуска.
Милан похватал из холодильника маминых заготовок «для двух вечно голодающих мужчин», как их с отцом называла мама. Салат, рыбу и котлеты Милан впихнул в себя в два счёта и, дожёвывая, помчался к пушке.
Он выскочил на улицу без ветровки. Студёный ветер подхватил его под локти, оставив на коже следы от своих ледяных пальцев — пупырышки и синеватый оттенок.
Ругая переменчивую погоду и спасаясь от холода, Милан с быстрого шага перешёл на бег. И вот он уже привычно нёсся по лесу, отмахиваясь от веток и поглядывая под ноги.
От этого бега — вниз, по утоптанной земляной тропе, а потом и по бездорожью, в густоте переплетённых трав — захватывало дух и чудилось, что летишь, уже не касаясь земли, в аромате цветения и весны. И кажется старым, пыльным сном бесконечная зима, белизна снега и льда на земле и в заливе, бескрайняя, слепящая и унылая, и только яркий парус буера на льду вдруг напомнит крыло августовской бабочки, тёплое, с ароматом цветочной пыльцы.
Но буер исчезнет в ранне-зимних сумерках, и лето отойдёт за горизонт вместе с ярким парусом.
Милан тряхнул головой на бегу, избавляясь от зимнего наваждения. Тучи скомкались в ватные клубы, и вдруг ударил гром. Земля вздрогнула, будто не гром, а все старинные пушки во всех уголках России ударили дружным залпом.
Прежде чем перейти дорогу к пушке, Милан присел на корточки, завязать шнурок. В высокой траве и за каменным фундаментом ограды его не было видно с улицы.
Зато он увидел. К пушке подошла девчонка лет десяти в тёмных колготках и ярко-жёлтых ботинках. Низенькая, неуклюже-толстенькая, по форме напоминавшая шар на тонких ножках. Она поправила очки в круглой оправе и сунула записку в ствол пушки. Оглядываясь, пошла к ближайшему жилому двору, через который Милан сотни раз пробегал.
— Девчонка, — прошептал он разозлёно. — Да ещё такая… Какие путешествия этой толстухе? И правда на гнома похожа. Интересно, что она там написала?
Милан выбежал на дорогу одновременно с ударившим по асфальту дождём. Ливень был тёплый и мгновенно измочил Милана с головы до ног. Из пушечного ствола будто бы шёл пороховой дымок. Это раскалённый с утра чугун исходил паром, остуженный ливнем. Записка, как и в первый раз, будто сама скользнула в ладонь.
Читать под дождём Милан не мог, зашёл за угол и под выступающим из стены куском железа прочел: «Ты смелый, отчаянный парень. Я видел, как ты утром дрался. Мне такой смелости не хватает. Вот бы научиться, если этому можно научиться». Милан опустил записку и подумал: «Нарочно пишет от мужского лица, чтобы я не догадался, что это девчонка».
«Я думаю, что пушечные гномы существуют, — было написано дальше в записке. — Я, наверное, немного похож на такого гнома».
«Это точно! — усмехнулся Милан, слизывая дождевые капли. — Хорошо я бы смотрелся с ней рядом».
«Как бы мне хотелось на лодке по заливу. И пусть там в фортах гадюки, зато там можно найти старинное пушечное ядро, древние монеты и ещё кучу всяких интересных вещей. Напишем несколько записок. Две или три. И можно будет встретиться. Боюсь только, что, когда мы увидимся, ты не захочешь со мной дружить. Так часто случается. Ну что же, мне не привыкать. А на лодке было бы здорово».
— Гадюк она не боится, но говорит, что трусиха. А я, «отчаянный парень», как раз очень даже боюсь гадюк.
Бр-р… — Милана передёрнуло от брезгливого страха.
— Эй, как там тебя? — натянув до плеч на голову разорванный целлофановый пакет, перед Миланом из дождя возник кадет Славка. На этот раз он был один. Промокший, дрожащий. Целлофановый пакет хлопал Славку по физиономии и норовил прилипнуть к щекам.
— Чего? — Милан напрягся, ожидая, что сейчас из-за угла выскочат ещё десяток кадетов и отомстят за утреннюю потасовку.
— Я нарочно тебя тут ждал, — Славка шмыгнул носом. — Ты зря утром обиделся. Я твоих записок не брал. Просто испугался, когда ты закричал: «Попались!» Нам ведь без разрешения выходить нельзя. Я и сейчас без разрешения… А что у тебя за тайна?
— Так я тебе и сказал! Деловой какой. А ты всем своим кадетам разболтаешь. Смеяться надо мной будете… и над гномом, — вдруг добавил Милан.
— Не буду! Не скажу никому, — Славка вытянулся в струнку от любопытства и правдивости, даже перестал бороться с целлофановым пакетом, хлещущим по щекам.
— Особенно если твой дружок узнает. Его сразу видно — наглый проныра.
— Он не дружок, так… — Славка обмяк и махнул рукой. — Нет у меня там настоящих друзей.
— С лодкой хорошо управляешься? — Милан понизил голос.
— Спрашиваешь! Само собой. А куда пойдём?
— Поплывём, — хихикнул Милан. — Мы люди сугубо гражданские. Мы не ходим, мы плаваем, — это была любимая отцовская присказка. — А ты не думай, что я про тебя всё решил, у тебя и испытания, и клятва будут. И учти, пушечный гном не любит трепачей и зазнаек… и трусов, — решительно добавил Милан. — Завтра. В это же время в стволе пушки найдёшь записку с инструкциями. Приходи один. А сейчас мне некогда.
Милан припустился по улице. Дождь стих, но асфальт был залит блестящими потоками, которые потихоньку сочились по желобам к заливу.
Девчонка, видимо, пережидала дождь под сводами массивного каменного забора. Она вынырнула оттуда как раз у Милана перед носом, разбрызгивая лужи своими лакированными, ослепительно-жёлтыми ботинками, смешно переваливаясь с ноги на ногу.
— Эй, постой! Пушечный гном! — крикнул Милан.
Она обернулась, настороженно глядя из-под очков, но когда Милан весело махнул ей рукой, она улыбнулась и пошла навстречу.
Наледь на стекле маленького оконца оттаивала неохотно. Но Стёпка, подышав на замерзающий палец, снова и снова прикладывал его к стеклу. Во льду на фоне черноты за окном вызревала надпись: «Я хочу домой!!!» На третьем восклицательном знаке Стёпка тихонько заскулил и ткнулся заплаканным лицом в ладони. Из-под окна в Стёпкину макушку сквозило сухим морозным ветерком, но лицу стало жарко от колючих рукавов шерстяного свитера.
За деревянной, не доходившей до потолка занозистой перегородкой сидел отец. В дырочку от сучка можно было видеть письменный стол, заваленный бумагами, графиками, таблицами, серый край радиостанции и отцовы руки. Красно-коричневые от северного солнца и холода. В левой руке зажата истлевающая сигарета, осыпающаяся пеплом на бумаги, в правой — шариковая ручка, занесённая над сложной таблицей в нерешительности или задумчивости. А может, отец просто задремал под завывания ветра.
Но отец не спал, и Стёпка услышал его хрипловатый бас из-за перегородки:
— Слёзы и скулёж тоже не помогут. Ехать тебе некуда. Так что смирись… Или ты желаешь пожить в интернате? — над перегородкой появилась лохмато-бородатая с проседью отцова голова. Очки сползли на слегка обмороженный и бледный кончик носа, и отец напоминал безумного профессора из какого-то фильма, который Стёпка однажды смотрел.