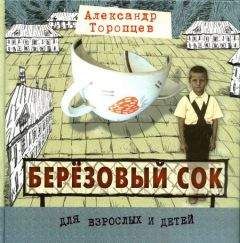— Это тебе не камушки, — догадался Ленька о его мыслях, подкручивая какой-то винтик в движке. — Ну-ка проверим! — крутанул педаль, мотор радостно зашелся, тут же остепенился и зарокотал приветливо. Славка даже о ногах забыл, скорее бы в путь!
У железнодорожного моста, на траве, на покатом берегу, нежились люди, барахтались в воде, плескались. Ленька поставил мопед на ножку, разложил на траве мокрые брюки, потянулся:
— Нырнуть что ли.
Славка промолчал, по мосту со свистом промчалась электричка.
— Посторожи, своих что-то не вижу, — негромко сказал Ленька и, прибавив в голосе, добавил. — Метров десять, с арки — все двадцать.
Девушки рядом обратили на него внимание, он гордо направился к мосту, взошел на него, потрогал перила, будто проверяя, надежно ли их приварили, одобрительно качнул головой, пошел по шпалам на середину моста. Славка смотрел на него с завистью и некоторой робостью. Девчонки рядом — с удивлением и еще с каким-то чувством, Славе неведомым. Мопед беззвучно отдыхал, уверенный в себе и в своем хозяине. Ленька перешагнул перила, махнул рукой, оттолкнулся и — сначала руки в стороны, ласточкой, потом ладонями вместе, пикой, полетел. Долго и красиво он летел, четко врезался в воду, вынырнул, приплыл к берегу, посмотрел на мост:
— Люблю высоту и скорость, — сказал.
Девчонки рядом хихикнули.
— Сможешь? Солдатиком нестрашно.
— Я и не солдатиком смогу, — Славка медленно пошел к мосту, вскарабкался по насыпи к железнодорожному полотну, осмотрел — все как Ленька, степенно, без спешки, хотя на него, похоже, никто не обращал внимания, — и направился по деревянному тротуарчику моста на середину.
— Дальше от опоры! Здесь! — услышал Ленькин голос, глянул вниз направо, на опору, бетонную чушку, на которой стоял мост.
Воды он не боялся, привык к ней, но опора напугала его, и он шажками, шажками подальше от нее.
— Дальше нельзя. Там мелко! Ныряй, солдатиком не страшно!
— Понимал бы ты чего, — Славка почувствовал себя очень маленьким и легким. Казалось, дунет ветер, пока он лететь будет вниз, бросит его пушинкой и ударит о бетонную чушку. Страшно. Вон, какие он ворочает облака, как раскачивает тополя и воду рябит тяжелую. Что ему, ветру, человек-пятиклассник?!
— Пошел!
«Куда он торопится?» — Славка осторожно сложил копьем руки над головой и оттолкнулся.
Летел он быстро. Не успел подумать ни о чем, как упругий вал воды врезался в грудь, проглотил его и сорвал плавки! Славка даже не насладился счастьем человека, нырнувшего в жаркий день в глубокую воду, а плавки, скользнув с бедер, зателепались на коленках, сползли ниже, зацепились за правую ступню. Славка сделал в воде сногсшибательное сальто, поджал ногу — ура, плавочки хорошие, поймал! Он надел их еще в воде и вверх, на воздух. Ух! Соскучился по небу и солнцу, по Ленькиной физиономии. Покраснел: на мосту девчонки терли ноги о металл загородки. Поплыл к Леньке.
— Молоток! — похвалил его владелец мопеда и, прищурившись, громко сказал. — С перил что ли нырнуть?
— Солдатиком?
— Сам ты солдатик. Ладно, пока с моста поныряю.
Весь день нырял Ленька, завистливо поглядывая на арку, к вечеру не выдержал:
— Пойду, — сказал, но сначала подошел к мопеду, завел его, покрутил отверткой винтик и вдруг, словно движок урчанием своим напомнил ему о чем-то важном, крикнул Ленька, стукнув себя по лбу ладонью. — Елки-моталки! За фотографиями же до семи нужно успеть. Для пропуска. Айда, может успеем.
Домой они вернулись поздно. Была жара. После фотоателье так вспотели, что решили искупаться в Рожайке.
А рано утром Славка сидел в электричке, она медленно ползла по мосту, и две старушки, сидевшие напротив, гундосил вредно: «Намедни один с арки нырнул. Насмерть. Близко у опоры. Не рассчитал». «И в том году какой-то матрос утоп. Пьяные небось».
«Бр-р» — страшно стало Славке, хотелось Леньке рассказать бабкиных разговорах. До вокзала он не мог сбросить с себя липкий, как пот в жару, страх.
Пришла чудесная осень: дни — солнечные, мягкие, вечера — теплые, пахучие, воздух — сладкий, с дымком картофельной ботвы, ночи — полные снов и мечтаний.
Ленька приезжал с работы, хлебал щи и выносил на улицу баян. У подъезда собирались пацаны и, скрестив руки на груди, слушали чарующие аккорды Ленькиной смелой игры. Любил он музыку страстно, и … будоражили Ленькины буги, рок, танго и вальсы поселок, выгоняли взрослых и детей из кухонь и комнат и — как они танцевали!
Танцевали они по-разному и в разное время. Взрослые, например, старались натанцеваться до заходы солнца, а дети дожидались сумерек и приставали:
— Леха, ну сбацай чего-нибудь путевое.
Ленька (безотказный он был человек) спокойно поправлял лямки тульского баяна, вздыхал, улыбался и разводил меха:
Не ходите дети в школу,
Пейте дети кока-колу!
Подвывали пацаны, выделывая из себя папуасов «Новой Жилпоселии», а потом бросались в бесовство «Читанагуа чучи», зачумленно похрипывая:
О, тяжкий труд!
Полоть на пуле кукурузу.
После бесподобных пассажей «Читанагуа чучи» Ленька делал небольшую паузу, с чувством, толком, расстановкой раскуривал «Смерть альпиниста», а мальчишки чинно прохаживались по танцплощадке. Наконец бычок «Памира», щелкнутый музыкально-слесарным пальцем, выписывал длинную дугу, золотистой крапинкой обозначенную в густеющих сумерках, и медленно-медленно, в ритме убаюкивающего блюза начинался рок жилпоселовский. Почему жилпоселовский: Да мелодия была всем очень знакома давно, с пеленок. И слова. Слова-то уж точно были — свои!
Колхозный сторож Иван Лукич
В колхозе свистнул один кирпич.
Пели мальчишки с такими понимающими улыбками, будто знали того самого Лукича, который:
Построил домик и в нем живет,
Не зная горя, табак жует!
А музыка, быстро выбираясь из блюзовых скоростей, разгонялась, разгонялась до самых отчаянных роковых скоростей, и отдавали мальчишки року, некоронованному королю танцев двадцатого века, всю неуемную страсть подмосковно-мальчишеской души. Они бесились в каждом роке как в последний раз, будто чувствовали, что где-то на далеком Западе уже вихляются в твисте сверстники, рождается шейк в изломанных капитализмом мозгах, носятся в воздухе идеи разных брейков. О, неважно, что они чувствовали, скорее всего они ничего не чувствовали, просто дергал их Ленькин «туляк» за руки, ноги, нервные клетки и языки:
— Шарь, Ленька, шарь!
И все-таки не Ленькин рок был гвоздем программы тех осенних вечеров, а «цыганочка». Да не та, что бацали в «Ромэне» или в «Поплавке» у «Ударника». Там была «цыганочка» классическая. А классика, как Ленька часто говорил, быстро надоедает. Искусство же настоящее требует постоянно нового, личного, неповторимого. Таковой была «цыганочка» жилпоселовская, Ленькина. Сколько чудного накручивалось в ней, какая она была спорая на импровизацию, лихую, взрывную импровизацию!
Выйдет этакая волоокая, с жуткой синью в глазах, пышногрудая девушка в круг, тряхнет пшеничными волосами, вздернет мягкие руки, топнет упрямой ножкой, и пойдет мелкой рябью страсть души ее русской от одного к другому, от мальчишки к взрослому — к Леньке. А он уже поймал момент, меха напряглись, и аккорд, резвый, сочный, непокорный, с непередаваемыми словами свингом, тронул за сердце смелую «цыганочку», и пошла она по кругу разудалая. И не выдержал кавалер. «Эх, родимая!» — крикнул, вписываясь грубоватым аллюром в игривый вирах напарницы. А Ленька им заходик по второму разу — да так, чтобы сердце екнуло, жилы затрепетали, душа запела. Эх!
Ты цыган, и я цыган,
И оба мы цыгане.
Поет водитель грузовика, а его «грузовичка», разнорабочая на стройке, они год назад вместе восьмилетку закончили, яростно топая новыми босоножками, на которые все смелее ложатся тени шумного вечера, поет под общий смех:
Цыган цыганке говорит:
«У меня давно стоит».
А что стоит и где стоит,
Ничего не говорит.
И перепляс, в котором цыганское очарование перемешивается с русской удалью, а причудливые коленца с ухарской присядкой.
— Еще, Леха!
На смену первой паре, которая растворяется в темноте, на пятачок вылетает тонконогая лань, черноглазая, и без заходов бросается в вихрь танца. И так заразительно отплясывает она свою «цыганочку», что вновь какой-нибудь водитель, или токарь, или слесарь врывается в круг и отчебучивает очередную шутку.
И-их, какие «цыганочки» видывали на поселке пацаны! Королевы ли принцессы, царицы ли баронессы, — кто их поймет в тринадцать лет, да только не эти «цыганочки» были гвоздем программы осенних вечеров.