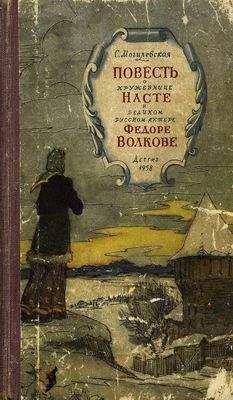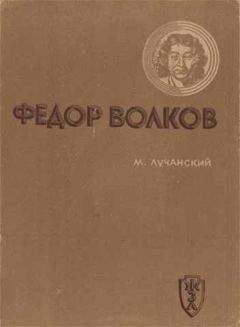И далее в указе точно и обстоятельно говорилось — и про подводы, которые следует дать актёрам для привозу принадлежащего им платья и декораций, и про деньги, что должны быть отпущены из казны для этой цели, и про всё остальное.
А отправить за ярославскими актёрами велено было Дашкова, подпоручика сенатской роты.
Указ Елизаветы Петровны был объявлен в Сенате на следующий же день — четвёртого января. Пятого января заслушан, скреплён подписями и приведён в исполнение.
И вот из Петербурга в Ярославль мчится гонец — подпоручик Дашков. В руках у него срочная подорожная. Дело не терпит, и станционные смотрители вне всякой очереди дают царскому нарочному свежих лошадей...
Сколько уже прошло с той страшной минуты, когда её втолкнули сюда, в этот холодный чулан перед барскими окнами, Настя не знала. Может, день, может, и больше... Она была словно в беспамятстве, в каком-то забытьи. Ничего не помнила, ничего не понимала.
Не чувствовала холода, хоть изо всех щелей дуло, хоть её колотил озноб.
Не чувствовала и голода: к хлебу, что лежал на полу подле неё, не притрагивалась. Лишь иногда припадала запёкшимися губами к деревянному ковшу с водой. С жадностью отопьёт несколько глотков и снова, вся дрожа от унижения и боли, падает на солому, что свалена в углу чулана.
А потом и пить не стала. Воду в ковше сперва затянуло льдинкой, а потом и вовсе заморозило.
Ночь Насте казалась днём. Светлый день чудился тёмной ночью.
Никто к ней сюда не входил. Только Матвей, глухонемой мужик, тот, что у барыни был за палача и тюремщика, рябой и лохматый, отомкнул тяжёлый замок на чуланной двери, положил подле Насти прямо на пол ломоть хлеба и опять ушёл.
Пожалуй, для него, единственного из всей Сухаревской дворни, Настя была наравне о остальными — обыкновенной дворовой. Велела барыня наказать виновную, велела посадить потом в чулан на хлеб да на воду, так Матвей и сделал, не думая, не рассуждая, а лишь свято исполняя господскую волю.
Однако и в его мрачном взгляде мелькнула жалость, когда он глянул на дрожащую в ознобе Настю. Войдя в чулан ещё раз, он промычал что-то и прикрыл её принесённым с собой бараньим тулупом.
С этой минуты, чуть согревшись, Настя опомнилась и стала приходить в себя. Почувствовала голод. Выпростала из-под тулупа руку, отломила кусок мёрзлого хлеба, пожевала. Потом снова закрылась с головой и забылась...
Все Настины помыслы теперь устремились к одному — как ей сказать Фёдору Григорьевичу о той беде, которая над ней стряслась? Кого упросить сбегать на Пробойную улицу или в театр? Она знала — Волков не оставит её. Поможет чем только сумеет. Не забыла Настя тех слов, что ей говорил он как-то раз: «Помни, Настя, во всём я буду тебе заступник...» Может, не такие сказал слова. Но смысл их был такой.
Доносились ей сюда в чулан какие-то отдельные звуки. Сперва она в них не разбиралась. Ничего не различала, кроме собственной боли, страха и отчаяния. Всё для неё сливалось в однородный шум. Но постепенно ухо стало вылавливать знакомые голоса. Вон Лёнька ревёт. Видно, опять его мать отстегала. Скрипнули ворота. Кто-то въехал во двор. Что-то скотница Анисья крикнула. Её голос. Знает ли она, что с Настей? Как не знать. Наверно, все знают — от мала до велика...
Только Фёдор Григорьевич, он один ничего не знает. А то пришёл бы, помог, вызволил её отсюда...
Настина вера в Волкова была велика, и все её мысли теперь были возле него, все её надежды сосредоточились только на нём одном...
Но как сказать ему? Кто из дворовых посмеет подойти к чулану, где она заперта?
Строга, люта барыня. Не терпит поблажек наказанному. Не зря велит сажать в чулан, что выстроен на виду окон её спальной.
В первый день, как Настю сюда заперли, услыхала она возле дверей тихий голос. Узнала Фленушку, та звала её чуть слышно: «Настя... голубушка...» И тут же раздался грубый окрик: «Вот я тебе покажу, негодная! Самой захотелось...» Это Неонила Степановна усмотрела Фленушку, прогнала её прочь.
А потом девчонка Грунька стучала к ней. Звала, всхлипывала, и эту тоже прогнали.
Но Настя ждала, надеялась и верила. Кому-нибудь она сумеет передать заветное словцо. Кого-нибудь упросит сбегать к Фёдору Григорьевичу.
И наконец дождалась! Однажды услыхала издали голос деда Архипа. Дед, видно, снег разметал. Говорил громко: «Ну и сугробы, прости господи! Ну и сугробы!» И говорил дед таким голосом, что Настя сразу поняла: это он ей знак подаёт, что поближе подойти не смеет, потому что на виду, но чтобы Настя ему отозвалась.
Настя рванулась к чуланной двери. Застучала, забарабанила пальцами. Не громко, а чуть-чуть, еле-еле... Посильнее стучать боязно было.
Поймёт ли дед, что она ему сейчас скажет? Подойдёт ли поближе?
И тут услыхала Настя дедов шёпот:
— Настя... Девонька, жива ли?
Отозвалась:
— Дедушка, дедушка, слышишь меня?
А дед ей в ответ:
— Слышу, касаточка!..
И всё издали. Ближе не решается подойти. Не может, значит.
Тогда заговорила Настя не тихо, а громко, боясь, что дед не расслышит слов:
— Сходи к Волкову, дедушка... К Фёдору Григорьевичу. Понял меня, дедушка? На Пробойную...
Услыхал:
— Хуже бы не было, Настенька...
А Настя своё:
— Сходи, дедушка... Богом тебя прошу!
— Настенька...
— Скажи ему всё, как есть...
То ли барыня в окошко глянула, и дед забоялся и ушёл поскорее. А может, кто из господской челяди оказался недалеко. Но только дед больше ничего не сказал, сколько Настя ни прислушивалась. Ни словечка...
И Настя осталась, полная надежды и страха, сомнений и веры...
«Фёдор Григорьевич, а Фёдор Григорьевич, узнаешь ли ты про мои мученья?»
Нет, Фёдор Григорьевич всё ещё не знал о том, какая беда стряслась с Настей.
В тот день, седьмого января, они до последней минуты не начинали представление «Семиры», Все ждали: вот-вот Настя прибежит.
Фёдор Григорьевич рвал и метал. То и дело посылал рабочего Степана поглядеть на дорогу, что вела со стороны Сухаревского дома: не идёт ли? Сейчас в его мыслях было одно: как им начать представление «Семиры» без Насти? А про то, что с Настей могло быть неладно, у него словно совсем из головы выскочило.
В конце концов, потеряв всякое терпение, Фёдор Григорьевич приказал тому же Степану сходить прямо к Сухаревым на усадьбу и велеть Насте, чтобы мигом шла, что-де, мол, он...
— Бог с тобой, Федя! — остановил разгорячённого Волкова Яков Данилыч Шумской. — Неужто хочешь девушку сгубить?
«Семиру» играли без Насти. Ваня Нарыков надел весь Настин наряд: и сарафан атласный, и сверкающий кокошник, и фату, похожую на облако. Только вот русой Настиной косы у него не было. Да что там коса! Коса нашлась привязная. Дело-то не в том...
Играл Ваня хорошо. Роль Семиры он знал и любил. Даже иной раз обижался на Волкова, что не ему, а Насте дали её играть.
Но вот не было у него ни этой Настиной задушевности, ни нежности, ни женственной мягкости. И когда он, а не Настя, упав на колени, стал заклинать брата своего Оскольда
Коль жар моей любви тебе свободу дал,
Ступай отечества к преславной обороне! —
Волков почувствовал, что это не то, не то, не то...
И Ваня Нарыков это понял. После спектакля он подошёл к Волкову и сказал:
— Эх, Федя...
Волков ничего не ответил, только хмуро посмотрел на Ваню. И без лишних слов они поняли друг друга.
Лишь один Иконников почему-то торжествовал. После окончания представления «Семиры» он тоже подошёл к Волкову.
— Как, Фёдор Григорьевич? Чья была правда? Говорил, что бабьё не след пускать...
Волков не дал ему договорить. Взглянул с бешенством, процедил сквозь зубы:
— К дьяволу убирайся! А то такое получишь...
И быстро отошёл от Иконникова прочь.
Тот только рот разинул. Забормотал растерянным голосом:
— Да я ничего... Я ведь это так... Завтра придёт Настя. Куда ей деваться?
Но Настя не пришла.
Не было её и на следующий день.
И дальше её тоже не было.
Случалось и прежде Насте пропадать. Но на этот раз Волков почти с уверенностью знал, что с Настей случилось худое.
На третий день, посоветовавшись с братом Гаврилой и с Яковом Данилычем, Волков решил послать к Сухаревым сына приказчика, смекалистого паренька Ваську: пусть выяснит, что с Настей. Строго ему наказал: быть осмотрительным, лишнего ни с кем не болтать, постараться увидеть самоё Настю.
— Понял? — спросил Фёдор Григорьевич, в который раз втолковывая Ваське про осторожность и осмотрительность.
— Да мы разве без головы? — ответил Васька, тряхнув длинными, под горшок стриженными волосами. — Мы разве не сообразим, что к чему!
Отправив парня, Фёдор Григорьевич задумался. Зашагал по горнице. Из угла в угол. Когда думал, всегда так вот ходил. Особенно, если в мыслях было беспокойно, неурядливо.