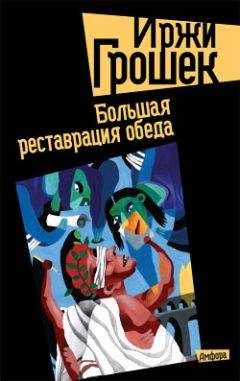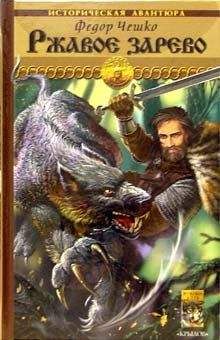Я ринулся на них, отнял мяч и стукнул в ворота. И так точно я стукнул, что сразу забил гол.
Девчонки закричали изо всех сил, а Нина Баскакова даже по имени:
— Ура! Саша!
И все меня поздравляли.
Только мяч выбили из ворот, я снова ринулся к нему, но споткнулся. И больше мяч мне не попадался. И поле футбольное было огромным, и все игроки большими и быстрыми.
Алла Андреевна поменяла нас с Наумом. Я сел у ворот и стал вытирать пот со лба и с живота.
Пока я отдыхал, Наум забил два гола. От него все шарахались, когда он бежал, даже Сушковы.
Он бы забил еще голов десять, но Алла Андреевна остановила игру.
К нам пришел инструктор по плаванию, плаврук.
— Сколько вас гавриков? Всех научу, — сказал он и начал учить нас плавать кролем без выноса рук.
Мы поплавали с полчаса на футбольном поле, а потом пошли в купальню и плавали там на мелкоте.
Плаврук ходил по берегу и руководил нами.
— Пошли есть клубнику, — сказал Сомов. Мы лежали в палате после отбоя.
— А кто ее дает? — спросил Витька.
— Видел сторожа? Во кулак! Сколько у него клубники.
— Так это же будет воровство, — сказал Наум.
— Сам ты воровство. Он будет есть ее тазами, а мы смотреть, да? Видишь у него в окне свет?
— Вижу, — сказал Наум.
— Это он ест ее, клубнику свою. И утром ест, как встанет.
— Я не пойду, — сказал Наум.
— Я тоже, — сказал Витька, — я ногу занозил.
— И я, — сказал я.
— Толик, пойдешь? — спросил Сомов.
Толик сразу захрапел.
— Тогда я Сушковых позову.
Сомов взял Витькину тюбетейку и пошел из палаты. Они трое протопали по лестнице.
Только они ушли, к нам поднялась Евгения Львовна.
— Спите? А где Сомов? — спросила она. — Звеньевой!
— Он ушел в туалет, — сказал я.
Она прошлась по палате и постояла у окна.
— Что-то долго он там задерживается… Странно, странно, — сказала она, подождав еще.
— Можно, я схожу за ним? — сказал я.
— Куда?
— В туалет.
— Он что, дороги не знает сам?
— Да, не знает. Там лампочка перегорела, а он говорит: «Как темно, так я сразу теряю всю ориентацию».
— «Ориентацию». Ну, сходи.
Я надел сандалии и пошел вниз.
От крыльца я, пригнувшись, побежал к забору. Всюду было темно и дул прохладный ветер.
За забором среди кустов кто-то посвистывал.
— Эй! — окликнул я шепотом. — Вас Евгения Львовна ищет.
Свист оборвался. Я повернулся, чтобы идти назад. Передо мной стоял старик.
— Кушал клубнику, мальчик? — сказал он.
— Нет, это я заблудился. Ищу-ищу свою дачу. Это не моя? — показал я на его дом.
— Нет, это моя. Что ж ты по ночам ходишь? Ты бы днем пришел. Днем и ягоды лучше отобрать, какие спелые. А ты ночью. Ночью кто ходит, знаешь?
— Нет.
— Лунатики. Ты не лунатик?
— Я?
— Ну да, ты?
— Я — нет. Я вратарь.
— Значит футболист. Ну пойдем, угощу, раз футболист, — сказал он и открыл калитку.
Я пошел за ним и мне было страшно. «Кто его знает, чем он угостит», — подумал я.
Он порылся у крыльца и дал тяжелую корзинку.
— И своим уделишь. Они тут рылись на пустых грядках.
Я стоял посреди дорожки.
— Занеси корзинку завтра, я тебя и рассмотрю, каков ты вратарь.
И он засмеялся громко, так громко, что где-то рядом вскрикнул петух.
Я поднялся в палату, а корзинку оставил за дверью. Евгении Львовны не было, и Сомов рассказывал про клубнику. Он сразу замолчал, как увидел меня.
Потом мы ели ягоды. Позвали соседнюю палату. А они позвали своих соседей. На койках сидели все ребята нашего отряда.
И все мы ели клубнику.
— Надо старику дров наколоть, — сказал Витька, надевая тюбетейку.
— У него есть дрова, — сказал Сомов.
— Тогда козу поймать, когда сбежит.
— А козы нету.
— Что же ему сделать еще? И делать-то нечего.
— Я завтра посмотрю что́, — предложил я.
— Точно, — решили все, — и мы ему сделаем.
* * *
— Футболист пришел, — сказал старик, когда я встал у его калитки после завтрака.
Он сидел на крыльце, вокруг валялись тонкие щепки, и он плел из них корзину.
— Это вы под клубнику плетете? — спросил я.
— Под какую клубнику? — И он засмеялся. — Это не корзина. Это лапоть. Знаешь лапти? Плету для киностудии.
— Зачем?
— Снимают фильм. Сто шесть пар лаптей, — вот какой заказ. Раньше что, вся Россия ходила в лаптях. А теперь ботиночки, туфельки. Не стало лапотников. На всю область двое. Умирает лапотное дело.
— А вы делитесь опытом, тогда не умрет.
— С кем делиться? Вот ты хочешь плести лапти?
— Я?
— Ну да, ты. Или друг твой какой-нибудь.
— А что, я хочу. Только не умею.
— Хочешь? — и старик подозрительно на меня посмотрел. — А не убежишь?
— Нет. Зачем убегать.
— Тогда садись. Подожди, схожу за стулом.
Старик принес из дома стул и еще железный крючок и деревянную колодку.
— Видишь крючок? Это кочедык. Им и плетут. Сначала плетешь, значит, подошву. Тут лыко толще, чтоб не снашивалось. А поверху пойдет кайма, обушник то есть, на нем лыко загибается.
И старик показал, как нужно держать кочедык и тянуть им лыко. Сначала у меня все падало из рук, а потом стало получаться.
Мы поработали всего чуть-чуть, а Катя уже загорнила на обед.
— Завтра можно я кого-нибудь приведу? — сказал я.
— Давай, — сказал старик, — только начальству доложите, куда идете. А меня зовите Феофан Феофановичем.
Толик был рыжий, и его нельзя было стукать по голове. Даже в футбол он играл в Витькиной тюбетейке. Осенью он свалился с мотоцикла, с заднего сиденья, и получил сотрясение мозга. Теперь у него болела голова.
Братья Сушковы нарочно его стукали, и он уходил за угол или еще куда-нибудь и плакал.
— Рыжий пошел реветь! — кричали братья Сушковы, и все отворачивались друг от друга.
В первые ночи мы долго не засыпали. Мы пели песни или кричали просто так, кто что хотел.
Евгения Львовна ходила по палатам и уговаривала нас заснуть.
Однажды мы не кричали, а рассказывали истории. Я рассказал про человека с тремя глазами. А Толик рассказал целую книжку про путешествия. Она называлась «Среди скал и людоедов».
На следующий вечер мы попросили еще рассказать ту книжку. Он стал рассказывать другую: «Я побывал на Марсе». Эту книжку написал его отец, — сказал он.
Как раз братья Сушковы зашли к нам, чтобы подраться подушками. Они стали слушать Толика и просидели у Наума на кровати весь вечер. Они пришли и на другой день дослушать ту книжку.
А когда утром к Толику пристал толстый Митька из первого отряда, они увели того Митьку в овраг и долго оттуда не возвращались.
* * *
Я нашел Толика у забора. Сегодня он был грустный.
— Хочешь научу лапти плести? — сказал я.
— Знаешь, я сейчас все думаю.
— Зачем?
— Жить мне не хочется.
— Как так не хочется?
— Понимаешь, я прочел одну книгу. Там говорят, что земля ужасно маленькая по сравнению со звездами, как песчинка и арбуз. А звезд этих миллиарды, даже больше. И весь мир существует вечно. Понимаешь, всегда был и будет.
— Ну и что, я тоже про это слушал лекцию. По радио.
— Я как об этом подумаю, сразу жить не хочется. Люди, значит, ничто, меньше песчинки для мира. Он и не замечает нас.
— Пускай не замечает, нам-то какое дело.
— Значит, живу я или нет, миру все равно. И еще в той книге написано, что все люди когда-нибудь погибнут. И земли не будет, и солнца тоже не будет, а мир — будет.
— Это еще как сказать. А бессмертие?
— Что бессмертие?
— Да его же изобретут. Очень скоро изобретут. А потом мы полетим к звездам. Тоже будем всегда жить, еще подольше мира.
— Когда это еще будет. Я-то все равно умру.
— А может, и скоро. Если бы каждый старался и работал, скоро бы было.
— Это верно, — сказал Толик, помолчав, — только не каждый старается. Из-за этого так и долго, наверное, что не каждый.
— По радио бы объявить, — сказал я.
Мы с Ниной дежурные по даче. Мы подмели пол, я наверху, а она внизу, а еще подмели лестницу и вынесли мусор в овраг. Потом мы стали ждать отряд. Он полол турнепс в колхозе.
Нина заполняла отрядный дневник. Оказывается, у нас есть свой дневник. В нем написано про каждый день, что и как мы делаем в лагере. Нина писала: «Сегодня прекрасный день. Дружно, с отрядной песней, мы пошли на помощь соседнему колхозу «Борец».
Она закончила страницу, и мы начали разговаривать. Нина рассказала, как летала на «ТУ-104» к бабушке в Свердловск. Рассказала про бабушку и про своих родителей. А еще про рыб в аквариуме и про щенка Бобика. А я рассказал, как у нас жил еж в прошлом году. Днем он сидел под шкафом, а ночью хлопал по полу и катал бутылки. Потом я тоже рассказал про своих родителей и про Евсей Александровича, который собирает гоночную машину. А Нина вынесла тетрадь и сказала, что она пишет стихи. Даже дала прочитать кое-какие старые. Про лагерь она тоже успела написать несколько стихов — «Мы любим стоять на линейке» и еще одно, которое она сразу накрыла, как перевернула страницу.