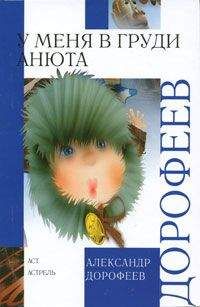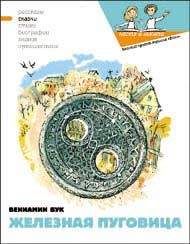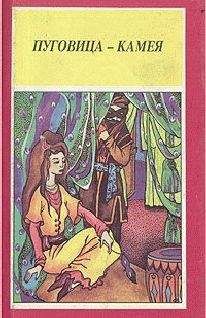Они стояли очень смешные. Черномазые в крапинку. Если бы Гамбоев выходил в таком виде на ринг, не знал бы поражений. Долго не могли понять, что же случилось. А Вадик сидел в луже и глупо-глупо улыбался.
– Сщинок! – выговорил наконец дядя Сашко, среднее между «сынком» и «щенком», но явно ближе к последнему.
– Нет худа без добра, – примирительно сказал Гамбоев. – Как раз завтра в баню намылился!
То ли душа дяди Сашко не совсем еще замкнулась, то ли стеснялась Гамбоева, но хмыкнула и подмигнула:
– Выбирайся-ка оттуда, обормот, по добру, по здорову! Давненько не парились! Бог, известно, троицу любит.
И они пошли по такой известной дороге к бане, на сей раз втроем, всяко потешаясь над Вадиком и развесело шутя.
Пока мылись, не парились – пар уже был рыхлый, кислый, – день посерел, остудился и как-то досадно завял.
Вадика вели под руки, как арестованного, хотя он и не думал больше летать. Дядя Сашко прибавлял шагу, поскольку родительское собрание на носу. Вадик еле успевал перебирать ногами. И вот у клуба, точно на прежнем месте, запнулся, что было мочи, неловко ткнулся и выскользнул, как птичка из кулака, очутившись в знакомой луже.
– Ах, да ты с умыслом! – осенило дядю Сашко. – Хочешь, чтобы твой папка опоздал на собрание?!
Вытаскивал он Вадика довольно грубо, не взирая на посторонних, как милиционер забулдыгу.
– Ну, пачкун! – приговаривал. – Ну, идиота кусок!
– Грязнюк! И заморандель! – добавил, отряхиваясь, Петр Гамбоев.
Душа дяди Сашко наглухо, конечно, замкнулась. И в таком ненастном, полумытом состоянии, наскоро переодевшись, поспешил он в школу. А Вадика запер дома на ключ, предупредив о близкой порке.
В школе было тихо, как в казарме. Хмурая нянечка швабрила коридор. То ли уже разошлись все, то ли шептались где-то.
– Никого! – махнула нянечка шваброй. – Один завуч! Всегда на посту!
Дядя Сашко, припомнив ни с того ни с сего флотскую службу, протопотал к учительской гулким строевым шагом. Постучался коротко и, не услышав ответа, распахнул дверь.
Перед мутноватым настенным зеркалом сидела маленькая, как пуночка, женщина – в бигуди, с бутербродом во рту и только что накрашенными ногтями, не позволявшими вынуть бутерброд. Она напугано кивала, мычала и так красноречиво помахивала кистями рук, что дядя Сашко сразу понял – глухонемая. Чудно, конечно, для завуча, такой явный минус, но, может, у нее уйма других педагогических плюсов…
Дядя Сашко глубоко вздохнул и начал орать, как на параде, по слогам, широко и дико разевая рот, будто приветствовал адмирала.
– Опо-здал! Из-ви-ня-юсь! – надрывался, забывая от усердия о смысле. – Я сын Вадика Свечкина! Как слу-жба?! Нету ли взы-ска-ний?
На этот рев заглянула нянечка и встала в дверях со шваброй наперевес.
Завуч отчаянно, с ненавистью, краснея и бледнея, дожевывала бутерброд.
– Вадик Свечкин? – широко раскрыв глаза, наконец проглотила. – Нет таких!
Теперь уже дядя Сашко онемел и попытался изобразить руками какие-то причудливые слова.
– Неужто выгнали?!
– Лет десять, как никого не выгоняли, – с досадой сказала нянечка. – А уж твоего-то, уверена, стоило бы!
– Погодите, папаша, а в какую школу вы пришли? – проницательно спросила завуч.
Дядя Сашко совсем спутался, смешался.
– В первую, – посчитал зачем-то на пальцах. – Имени первых космонавтов.
С минуту завуч гневно молчала, как бедный уличный автомат, получивший копейку, и вдруг зашипела, забулькала, запузырилась, до краев наполнив стакан газировкой.
– А это, любезный, вторая! Всего три школы в нашем городишке, и вы, уважаемый, не знаете, где сын учится!
– Родитель! – подхватила нянечка. – Чего уж от детей ожидать?!
Такого позорного дня дядя Сашко не помнил в своей жизни с тех пор, пожалуй, как закопал ужасающий дневник за пятый класс.
Нянечка проводила до дверей, чуть ли не шваброй в спину, и долго кричала, с намерением, будто глашатай, на всю улицу, что таких отцов, как щенков, топить надо в пруду, пока еще детей не наплодили.
Еле-еле, спотыкаясь, брел дядя Сашко домой. Очень подавленный, уставший от долгой бани и от короткого, но яростного собрания. Не оставалось даже душевных сил выдрать, как обещал, Вадика.
А Вадик, кстати, уже давно, чтобы не терять даром времени в ожидании порки, выбрался из запертого дома через форточку и копал червей на заднем дворе. Он любил копать червей. Попадались то скользкие, то шершавые, но отборные, тугие толстяки, танцевавшие в пальцах. Как на таких не клюнуть!
Набралась пол-литровая банка, когда лопата уперлась во что-то эдакое, обернутое тряпочкой и целлофаном.
«Неужто чей-то секретик? – подумал Вадик. – Или маленький клад?! А может, историческое открытие, древние письмена?!»
Осторожно разгреб землю, очистил пакет, развернул и прочел на толстой замызганной тетради фамилию «Свечкин», начертанную шаляй-валяй, коряво и небрежно. Дневник! Хотя поверить трудно, невозможно поверить! Ясно пом-нил, что схоронил в поленнице. Он ощутил себя червяком, танцующим меж чьих-то пальцев. Руки тряслись, будто тащил сома на удочку.
За минуту раздумий Вадик, как свидетель подлинного чуда, повзрослел на годы. Какие там черви и сомы, когда такое творится в мире!
Раскрыл дневник, понадеявшись найти ответ, будто в книге жизни, и уже не мог оторваться. Это было на самом деле историческое открытие, вроде стоянки первобытного человека. Многое, очень многое приблизилось, просветлело, стало понятным. Никогда еще не читал Вадик с таким восторгом, впитывая каждое слово, каждую цифру.
За этим и застал его дядя Сашко. Они посмотрели друг другу прямо в глаза, и дядя Сашко потупился.
– Вот видишь, сынок, – промямлил он, окончательно добитый. – Такие вот дела. Запомни, сынок, – все тайное становится явным…
– Да, папочка! – ответил Вадик и с легкой распахнутой душой снова запел про Анюту.
А мне в то время хотелось петь про Любу Черномордикову.
Любовь вспыхнула, как новогодняя елка, вдруг. И сердце обмерло, захлопав шумно крылышками. На последнем уроке физкультуры в четверти. Когда Люба упала с каната.
Все лето полыхало безумное солнце, и распускались без устали золотые шары в палисаднике. А Любы не было. Она уехала отдыхать с родителями.
Я оборвал ромашки в округе и гадал уже на золотых шарах, дергая бессчетные лепесточки – с утра до позднего вечера. Ночью же, подобно ракете, выходил в открытый космос. Среди звезд и черных дыр, в туманностях и андромедах тщетно искал Любу Черномордикову. Чудная шла жизнь – с туманом и черными дырами в голове, с огненными звездами, с пульсарами и квазарами в сердце.
Лето казалось длинным, безграничным, как вселенная. Однако – раз! – и кончилось, погасло, как от короткого замыкания. Даже странно, что так быстро миновало.
Первого сентября я увидел Любу. Увы, совсем не ту, которую разыскивал ночами в мирозданье, а днями – в лепестках. Долговязую, выше меня на полтуловища, тощую, как удочка, с мышиным хвостиком на голове и проволокой в зубах. Хорошо, что весной не признался в чувствах.
Возможно, проведи мы лето вместе, все было бы не так жутко. Но образ Любы успел достичь неземных высот, и я не перенес стремительной посадки. При спуске не обвыкся. Забыл о постепенности и об ушанке.
А дядя Сашко купил Вадику велосипед. И ночи напролет, до самого рассвета гоняет он по улицам, без рук, с закрытыми глазами, глядя в бездонное небо. Трудно сказать, как это у него получается, и в кого он влюблен, этот Вадик Свечкин, так похожий на первых космонавтов.
Хотя единственная в школе Анюта. Наша классная, по пению, Анна Павловна.