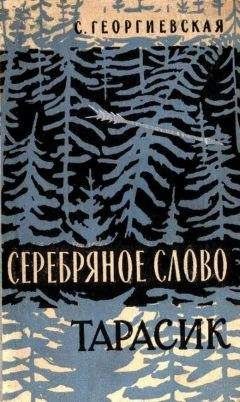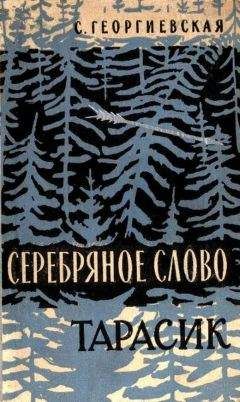И вот уж летят плиты по другому конвейеру. У конвейеров женщины, они проверяют каждую плитку, хоть белую, хоть голубую, а хоть с цыпленком или там с аистом.
Если плитка крошится, они не жалеют ее и выбрасывают. Значит, не крепкая, значит, не закалилась.
Неутомимо бежит конвейер. Утром, вечером, днем и ночью проверяют женщины прокаленные плитки.
А вот большой барабан. Это он только так называется барабаном — по-заводскому; на пионерский он не похож. Из барабана бежит струя, обливает плитки. Струя не какая-нибудь, а особенная, зовется эмаль. Бежит густая, чуть желтоватая. Но только огонь нам расскажет, какого цвета была эмаль. Лишь в огне она поведает о цветах, обо всех цветах радуги. И о тех цветах, что, может, не снились радуге. В первой печи розовеет плитка. Огонь крепчает — она краснеет. Огонь бушует — она становится алой.
Огонь!..
Есть на свете такая наука — химия. Но есть на свете искусство, причуда. И жар огня. Лаборант уверен, что плитка будет коричневой. Ан нет! Огонь обожжет ее, а плитка — хвать! — и станет зеленой. Поэтому в лаборатории делают пробы, проверяют: какой же будет эмаль после обжига? Над этим работают лаборанты, инженеры и мастера.
…Дедов завод стучит и грохочет, как всякий другой на свете. Только он еще и гудит вдобавок — гудом пламени.
На дедушкином заводе даже пол и тот частенько бывает белым. На полу — песок, каолин. Для дедушкиного завода с разных концов Союза привозят глины. Глина ждет, чтобы рассказать о себе под действием пламени. Ее проверит ученая лаборантка, но еще лучше ее проверит огонь.
Есть на свете глины красные, белые, огнеустойчивые, морозоустойчивые. А вы думали так это просто — въехал в дом, а на кухне — на тебе! — красивые белые плитки.
Нет, не просто. Глядите, вон огромная печь, похожая на маяк. Она рвется вверх. Крутые ступени ведут к верхушке печи. В этой печке тоже бушует пламя.
Значит, и тут обжигают плитки?
Нет, в этих печах прокаляют жбаны, садовые вазы, куски колонны для сельскохозяйственной выставки.
Дед Тарасика — хозяин над этой печкой. Она большая и высокая, как маяк. И зовется она «горн».
Ты видел когда-нибудь гончарный станок? Ага, не видел! Только самые старые мастера умеют по-настоящему, так, как надобно, работать на этом волшебном станке. В Москве их два — дедушка Искра и мастер Гурилев. Гурилеву восемьдесят два года. Он пенсионер. Стало быть, в Москве на гончарных станках работает только дедушка Искра?
Нет, не только дедушка Искра. Но уж он работает — всем на зависть!
Он украинец. Из Опошни. Издавна говорят — лучшие, самые лучшие гончары в Опошне. Когда мастеру Искре было тридцать два года, его пригласили в Москву на завод.
Иные говорят: кустарщина! кустарщина! Эх, до чего легко придумать словечко, да и приклеить его к человеку ли, к делу ли. А есть другое слово, хорошее, верное: не кустарь, — умелец, мастер. И государство сказало: берегите умельцев, дорожите умельцами. Позовите-ка того, что из Опошни: Искру! У него умелые руки, золотые руки. Станки, конечно, станками, а мастер мастером.
…Дедушка работает на гончарном станке. Двери цеха приоткрываются. В щель заглядывают молодые рабочие. Они говорят:
— Вот это да!
Гончарный станок очень прост: два разной величины деревянных круга — один вверху, а другой внизу. У него нет приводных ремней. Дедушка Искра сам заставляет его вращаться. Ногою он нажимает на нижний круг, и верхний круг как завертится!..
Ах, если б Тарасик мог подглядеть хоть в окошко, как красиво работает его дедушка. Тарасик еще не знает такого слова — «кустарщина». Он знает слова «волшебство!», «здорово!», «ну и ну!». Он знает, что их фамилия Искра, что его дедушка — мастер Искра. Ведь Тарасику еще пяти не минуло. Ему не надо рассказывать про потайной фонарь — весь мир для него освещен светом этого фонаря. В его свету он увидел бы, до чего хорошо работает дедушка. Дед берет кусок глины. Он швыряет его, вот именно что не кладет, а швыряет на верхний круг. Не силой — искусством удерживают руки мастера глину на верхнем кругу. Если глина собьется с центра, никакою силищей ее не удержать. Руки, ноги, глаза, все тело дедушки Искры прислушивается к станку. Левый глаз прищурен. Подбородок чуть выдается вперед. Бегут круги, руки мнут глину, каждый палец как бы рисует форму. И рождаются под руками дедушки блюда, вазы, причудливые кувшины — одним словом, все, что захочет дедушка. Нажим ноги, едва приметное движение пальцев!.. Круг летит, мастер слился с гончарным станком.
Вот и дно той будущей вазы. Вот ее стройное узкое тело, вот ее ножка, изящная, легкая. Та, что будет стоять на земле.
В эту короткую, единственную минуту мастер любит себя, он гордится собой.
В щель двери глядят молодые рабочие.
…Весь содрогаясь, с перекосившимся злым лицом мастер Искра хватает модель новой вазы — совсем готовой — с гончарного круга, мнет ее в руках и швыряет прочь. Как сын, он запускает руки в волосы. Только не русые, а седоватые. Опять и опять бежит под руками гончарный круг. Опять и опять прищуривается дедушка Искра и снова мнет модель своей будущей вазы и снова кидает ее прочь.
Где та короткая, та счастливая минута, когда он себя уважал?
Мастер взмок от злости и ненависти к себе.
— Вот, говорят, форма, форма… — бормочет про себя дедушка, — а какая такая форма? Свадьба формы и цвета — иначе изделия нет. Скучное дело будет, а вазы — нет, не будет!..
Поет станок, поет песня в сердце дедушки Искры, разрывая, а не утишая его.
…Художественный совет. На завод приходит приемочная комиссия. Парк имени Горького заказал заводу садовые вазы. Над ними работали три художника. Два молодых и один профессор-старичок. Над ними работал и дедушка Искра. «Допустили! — с горечью думает дедушка. — Конечно, нельзя подавлять инициативу старого мастера. Конкурс — пусть, мол, пробует, старый хрен».
…Те двое, молодых, — ничего не скажешь, ребята с огнем. Особенно один, у него ваза прямо поет, диво дивное, а не ваза. Художество! Не дотянуться! И поразит же гром талантом такого немудрящего. Собой неказистый, лицо рябоватое, глазки как щелочки. Нет, не спрашивает талант, на чью голову ему сесть. Этот парнишка себя еще раздокажет.
И сердце дедушки Искры щемило от счастья и зависти.
Что до профессора — тот не конкурент. Ваза как ваза, скучное дело, много таких было и не одна еще будет.
А что получилось у него самого?
Срам и позор, а податься уже некуда.
Он входит на художественный совет и приносит четыре модели ваз. Он раздавлен. Он знает — это не то. Кто бы что ни сказал, все равно дедушка Искра знает: не то! Как побитый входит мастер на художественный совет. Гордый — он жмется в угол. Упрямый — не поднимает голову.
…Что это там говорят? И один, и другой, и третий. И парнишка тот, рябоватый? Лучшие вазы — вазы мастера Искры.
Он не верит! Неправда! Не может этого быть!
Вазы плохие, ему ли не знать!
И, выйдя с завода, шагая домой, он садится на камень в чьем-то чужом дворе и закрывает руками лицо. Если б мог — он бы сейчас заплакал. И подумать только, подумать только! Справедливость какая!
Справедливость? Или пожалели, поняли, что нельзя ему, мастеру из Опошни, сгореть со сраму. Ведь самая лучшая ваза — зачем врать — была у того, у молоденького, рябого.
— Ничего, сынок, — бормочет дедушка, — я тебе раздокажу, я тебе ответ дам. Ты дал мне намек, я ответствую. Спасибо вам, люди, спасибо за доброе слово. Вы мне его вперед подарили.
Лишь теперь, услыша его, дедушка Искра сделает настоящую вазу. Он за доверие отблагодарит. Он крылатый.
Она большая, вдвое больше Тарасика. Дедушка сделал ее на гончарном станке. Говорят, что этого не бывает. Но мастер Искра думает иначе.
Можно, конечно, сделать модель на станке — по шаблону, потом ее увеличат, запросто переведут в настоящий масштаб, перельют в форму, разрежут на куски…
Но для мастера Искры отливка — мертва. Он сделает вазу без отливки. Живая выйдет она из-под его рук.
Дедушка работал не только пальцами. Он запускал в глину руки по локоть. И хоть верьте, хоть нет — обошлось без отливки: она родилась живая!
На работу мастера Искры глядели в щель не только парнишки-рабочие, — директор завода, инженер по обжигу, лаборанты… Чудо чудное! Он сделал ее без отливки — эдакая силища!.. Упрямый, бешеный человек!
Она сохнет. Стоит в просторной отдельной комнате. Он ходит вокруг нее, глядит на нее и не дышит. Края у нее широкие, один опущен к земле. Она на широкой ножке, и весело эдак она избоченилась. Руки круглые, тонкие, детские… Ну, может, чуток потолще руки Тарасика. А будет она цвета кобальта. Это значит — синяя. От нежной голубизны — голубой как небо — перейдет она в цвет густой. Нет, не сразу, нет. Между ярко-синим и бледно-синим синька будет переливаться, играть. И кто посмотрит на вазу, вспомнит и василек и плюгавую незабудку, а кто бывал на море — море вспомнит, волну морскую. Она будет сохнуть пять дней, пока не поступит в большую печь для того, чтоб ее прокалил огонь.