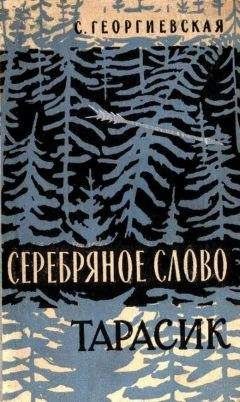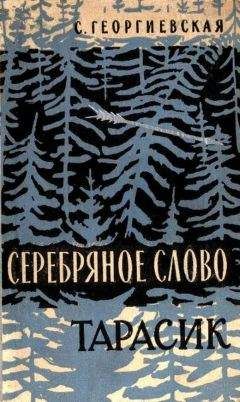…Придет время — из зелени, из земли глянет в небо небесная, голубая, морская ваза мастера Искры!.. В парке вокруг нее станут играть ребята. Будут лепить из желтого песка пирожки… И посмотрят они невзначай на нее: разволшебную, расчудесную — синяя, а внутри пион… Вот примерно так. Пионы будут литься из вазы на землю, брызнут через ее края.
Мастер Искра ходит бесшумно вокруг широкой садовой вазы. Главное впереди. Что скажет обжиг? Что скажет эмаль?
Если хотите знать, он не поставит вазу в капсюль. Живой огонь ее обожжет. Огонь — стихия. Что еще скажет ему огонь? Не придумать того человеку, что пожелает природа. Пламя — оно природа, стихия, причуда. Пусть говорит свое слово огонь.
На пару будут они работать — мастер Искра и горн!
Все что угодно может выдумать пламя, но не скажет скучного, тусклого слова. Искра — человек рисковый, он не поставит вазу в капсюль.
Завтра — день обжига. Тридцать шесть часов простоит мастер Искра у своего маяка. Он станет смотреть в окошки горна. Гончары зовут те окошки гляделками. Регулировать силу пламени — дело тайное и волшебное. Это дело старого гончара. Он его никому не поручит, не передоверит. Вазу внесут в раскрытые двери горна. Потом его замуруют. Вспыхнет пламя, и, все накаляясь, медленно, постепенно забушует оно вокруг парковой вазы… Оно будет ее лизать осторожно. И вот загудит — и обнимет вазу со всех сторон…
Искра не отойдет от печи. Он будет смотреть в окошки-гляделки.
Завтра — обжиг. Завтра ее замуруют в печь. Сегодня, может, последнюю ночь он поспит спокойно.
Но и в эту ночь он не лег. Он шагал и шагал по городу. Не то чтоб он думал о вазе, он не думал о ней. Что-то в нем бродило, пело. Мастер Искра не мог спать, не мог вернуться домой. Мысли, чувства, растроганность, даже какое-то умиление безудержно владели им.
Он устал. Хотелось присесть на скамейку в парке. Он присел на скамью, но что-то снова его подбросило и повело дальше. Душевное волнение так сильно владело им, что мастеру вдруг показалось, будто вокруг него поют улицы. Это был один из прекраснейших часов его жизни, когда все как будто бы обрело слова. Каждое дерево, каждый дом, и набережные реки Москвы, и старый мост, перекинутый через реку.
Река Москва катила во тьме свои тусклые воды. Шумела чуть слышно. Он оперся о перила моста и, внимательно и вместе с тем не замечая реки, глядел вниз.
А в этот же вечер папа Тарасика, едва дождавшись конца работы, пошел в свой старый дом. Он быстро шагал через двор, опуская глаза, подняв воротник, чтоб его не видали соседки. Знакомо тихо и нежно запело старенькое крылечко под ногами папы. Отцовская дверь была заперта. Он постучал разок, прислушался. Уж который вечер отца нет дома.
— Да чего ж ты рвешься, Богдашка? Напрасно рвешься, — сказал ему сосед-плотник. — Твой старик на заводе. Позавчера, в воскресенье, мы хлебнули по маленькой, так он вроде помешанный — все ваза да ваза какая-то. Толку я не понял, знаешь сам, от него не скоро добьешься. А в понедельник, часу эдак в шестом, опять на завод… Еще и светать не светало, а он уже шел через двор… Да что ты такой убитый? Правду говорят, тебя Сонька бросила?
— Верьте больше! — ответил папа. — Они наскажут… Сдал, понимаете, сопромат и решил навестить отца. Да никак не застану. А Соня в командировке.
— Сопромат? — спросил, удивившись, сосед. — Ага! Ну, значит, раз такое дело, надо выпить по маленькой.
— Нет, я, пожалуй, пойду, — сумрачно ответил папа и, не сдержав глубокого вздоха, пошел домой.
«Бросила, — рассуждал он. — Очень приятно. Привет! Уже молва пошла. Эх, жизнь! Не жизнь, а жестянка. Разве и правда купить четвертинку. Дом пуст, хоть шаром покати. Ни жены, ни отца, ни сына. Одна кошка — и та голодная. Куплю печенки, она любительница, пусть жрет, пусть отпразднует сопромат. К Тарасу бы зайти, так не отпустят его, пожалуй. Льгот нет. Потерял льготы, оскорбил, обидел ни за что ни про что хорошего человека, заведующую детским садом».
В руках — чекушка водки, печенка, консервы, батон за рубль сорок. В коридоре тьма, в комнате отощавшая грустная кошка.
— Жри, — вздыхая, говорит папа и нарезает печенку. — Приступай к действию. Не купил молока? Ничего! Обойдешься без молока. Надо терпеть. Люди терпят, и ты терпи.
Кухня переполнена кошкиным чавканьем. Папе так грустно, что ему неохота нести чекушку в свою одинокую комнату. Он выпивает натощак, прямо из горлышка, тут же на кухне. Кое-как, не садясь, закусывает консервами.
— Сопромат, — объясняет папа чекушке, — по существу, теперь самое время праздновать. Подумать только — сопромат! Тебе ясно?
Чекушке ясно. Она сочувствует и молчит.
Стоя он выпивает еще и еще. Отдает кошке остаток консервов, бредет в комнату, в темноте открывает радио… Как-никак, а все человеческий голос Нет, это голос не человеческий, а волшебный, это рояль!..
Комната кружится, чуть качаются стены, словно бы утешая папу. Он зажигает свет, а рояль поет. Да что это, думает папа, что это на самом деле? Да как же так?
Оттуда, из этой коробки приемника (он ее сам собрал, вот этими руками), рвется ликующее, счастливое, такое большое, что ему не вместиться в комнате. Взлетает Сонино платье, блещут глаза, он бежит через площадь, бьется сердце, а коробка поет что-то самое важное на земле. О чем? Он не знает.
И все тише музыка, и будто глохнет счастливое и победное. «Что это? — думает папа. — Оно ушло? Зачем ушло? Будь тут, не оставь, вернись!»
И вдруг, словно услышав папу, оно возвращается, сначала глухо лишь вспархивая, лишь прорываясь сквозь грустное, а потом снова звучит во всю силу, ликуя и побеждая. «Милая, услышь меня! — думает папа. — Милая, приручи меня!»
Кто же должен его приручить? Коробка от радио?
«Милая, если хочешь, я буду твоей собакой, хочешь, посади меня на цепь — даже тявкать не буду» — так думает папа — не мыслями, не словами, а музыкой. У музыки все на свете слова. «Милая, стань звездой, упади в нашу комнату, я подхвачу тебя. Вот руки, они будут крепко тебя держать. Не отпустят больше. Приручи меня. Услышь меня. Что же это такое, что же это такое?»
«Мы передавали «Порыв» Шумана», — ласково отвечает радио.
Шатаясь, папа идет к столу, хватает ручку и пишет маме письмо. «Не жалей, добивай» — так думает папа, а пишет: «Милая Соня, у нас все в порядке, Тарасик здоров…»
«Умираю, подыхаю», — думает папа.
«В детском саду условия приличные, питание удовлетворительное…»
«Приручи меня, посади на цепь», — думает папа. И пишет: «Без тебя скучаем, особенно Тарас, Будь здорова, целуем».
Он хватает конверт, пишет «авиа», заклеивает письмо.
Завтра, клянется папа, пусть он подохнет, но перечитывать не станет, опустит в почтовый ящик как есть.
И на следующий день опускает письмо на главном телеграфе: так быстрее дойдет.
Откуда же ему знать, что оно не долетит до мамы Тарасика. Когда письмо долетит, ее уже не будет на Дальнем Востоке…
«Да нет, да разве я старый? — говорит себе дедушка, шагая вокруг своего маяка и засматривая в гляделки. — Нет такого порядка, чтобы в пятьдесят семь лет объявлять человека старым. Другие в такие-то годы еще женятся, хозяйку в дом приводят, жизнь снова начинают. Что же это — как саван прежде времени старость на себя надевать?»
Так думал дедушка. Так думал он теми вспархивающими мыслями, которые бывают после бессонницы. Так он себе рассказывал, потому что пришел час самого белого света. А ведь бывают и черные часы. И чего только не говорит себе в эдакий черный час человек! Да и глуп ты, и туп, и не нужен ты людям, и спасибо тебе никто не скажет, и живешь ты на земле зря, а помрешь — добрым словом никто не помянет. Так говорит себе человек в черный час.
А теперь белый свет — светлый час. Солнце бьется в окна завода. Его отражают белые плиты и белый пол. И что только не приходит в голову мастеру Искре!
«Надо бы справить хороший костюм, Софье — платье… Тарасу купить двухколесный велосипед, чего ж, материальное положение позволяет», — думает он, покуривая у своего горящего маяка.
Посмотрит в гляделки — тревогой и счастьем сожмется сердце.
В горне бушует пламя.
«Эх, друг, что ты еще мне окажешь, что ты мне поднесешь?» — говорит мастер Искра огню.
И огонь отвечает ему:
«Порядок, не подкачаю. Мы с тобой знакомы не первый день. Забыл ты, что ли, про тот куманэць — ты и тогда был не в себе, друг любезный, однако стоит куманэць в музее и будет стоять, алый, как твои зори в Опошне, а? Забыл? А помнишь, как бился старик архитектор над тем фонтаном в Брюсселе? А ты взял и подкинул ему мыслишку: мальчик с дудкой и белый лебедь. Может, я тебя подвел тогда? Ты вспомни — лебеди белые, трава зеленая, а мальчишка белесый. И била вода из белой чаши фонтана. Видел ли кто цвет чище и ярче? Я ль на тебя не работал? Эх, ты, а еще зовешься Искрой!.. А помнишь, когда родился внучонок, я обжег тебе чашечку-невеличку, сама коричневая, а середка желтая, весело небось из нее, из желтой, белое молоко пить?.. Ага, вспомнил! То-то, браток! Ну, а уж синий цвет я тебе устрою: синее моря, синее неба, одно слово — ультрамарин, порадую, не сомневайся».