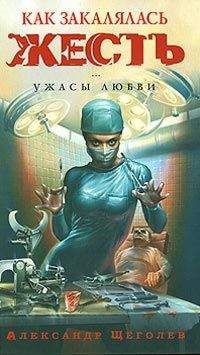— Совершенно верно!
Чук сидел, обхватив коленку, и его запястье было на виду.
— В линзу можно разглядеть отчетливо, — сказал Константин Петрович. — Я иногда рассматриваю. Но не часто… Я вообще смотрю на этот снимок довольно редко… Видите, даже поместил его внутри шкафа.
— Почему? — опасливо спросила Маша.
— Чтобы не привыкать. Когда все время видишь одну и ту же фотографию, она как-то смазывается в сознании. А когда изредка открываю дверцу, будто заново встречаюсь с друзьями. Вот они все… Тот, что стоит, — Толька Башмачкин, мы звали его Бамбук, потому что тощий. А вот у этого, большого, было прозвище Бомбовоз. Самый старший из нас, большущая сила и добродушие. Один недостаток — любил покурить…
— А больше никто не курил? — осторожно спросила Маша.
— Больше никто. Иногда пробовали, но привыкать не стали. Да и лет-то нам было всего десять-одиннадцать… Да, вот вся компания здесь… А теперь я один…
Кажется, старик пригорюнился. Даже слегка согнулся. Чтобы прогнать от него печаль, Мак быстро спросил:
— А у вас тогда такого знака на руке не было?
— Еще не было… Да и Чук сделал его незадолго до того, как мы снялись тут, на дровах. А я еще позже… Последняя память о тех годах. — Удальцов покачал кистью руки перед собой. — Это все, что осталось от меня прежнего… Сейчас вон какая седая косматая гора в сто тридцать килограммов. Уже и не представить Костика Удальцова десяти с половиной лет, этакое щуплое существо с парусиновыми лямками на плечах. В нашей компании был я самый «негероический» и смирный. А мне так хотелось быть не слабее и не боязливее других. И когда Валёк Федорчук небрежно похвастался такой татуировкой, я сразу решил: «Сделаю такую же! Помру, а сделаю!» Остальные Чуку позавидовали, но проявили здравомыслие: потом ведь не сотрешь, а дома что скажут? Чук же не боялся. Жизнь была у него несладкая, дядюшка иногда поколачивал, но за татуировку лупить не стал бы: не та причина…
Со мной же другое дело. Мать налаживала личную жизнь с недавно возникшим отчимом, они оба работали в филармонии, ездили с гастролями по ближним городам и селам, а меня воспитывали две бабушки. Одна, мамина мама, — обычная баба Люся с добродушным нравом, а вторая, мать отца, — этакая утонченная особа со столичными манерами. Сейчас сказали бы: экзальтированная особа. Кстати, она не терпела, когда к ней обращались «бабушка». «Зови меня Эльза Яковлевна или в крайнем случае тетя Эля». Однако, несмотря на разницу характеров, баба Люся и тетя Эля к моему воспитанию подходили с похожих позиций. Я знал, что мне влетит, но надеялся, что не очень. Тем более что татуировку все равно не сотрешь…
Татуировки умел делать большой парень с соседнего двора, Игорь Гусяткин. Ко мне он относился с симпатией («Привет, мотылек!») и операцию провернул бесплатно. Больно было, но терпимо, я не пищал. Готовый знак забинтовали, скоро он припух, но болел не сильно, а через день опухоль пропала. Игорь посоветовал походить с повязкой еще денек-два, чтобы все зажило окончательно.
А дома:
«Костенька, что у тебя с рукой?»
«Да чепуха, поцарапал, когда стрелял из лука… Тетя Эля, не волнуйтесь, я уже сам смазал йодом…»
«Какой сознательный мальчик, не правда ли, Людмила Григорьевна?»
Я рассчитывал, что потом буду носить на этом месте браслет с маленьким компасом и никто ничего не увидит.
«Заложила» меня соседская девчонка Таисья Запечкина (вернее, не заложила, а «определила», как тогда говорили). Она была моя ровесница. Противная особа. Мы с ней то и дело цапались. Непонятно, как пронюхала мой секрет. «Эльза Яковлевна, посмотрите, что у Кости под бинтом…»
«А что у него?.. Константин, иди домой… Ну-ка размотай повязку… Людмила Григорьевна, последите, чтобы не улизнул…»
Какой там «улизнул»! В такие моменты колени делались как ватные.
«Дай руку… Та-ак… Что вы на это скажете, Людмила Григорьевна?»
«Как есть настоящая шпана…»
«Это первый шаг в уголовный мир! Наш долг не допустить второго». И здесь нужны кардинальные меры…»
Я обмяк еще сильнее. Но в то же время ощутил облегчение: так или иначе, а не надо прятаться.
Эльза Яковлевна высунулась в окно. На дворе прыгала через веревку Таисья. Ее пышный сарафан нахально взлетал до подмышек.
«Тасенька, сходи, пожалуйста, за дровяник, там кленовые кусты. Выбери прут. Во-от такой длины и такой толщины. Да ты сама знаешь…»
«Таська, не ходи!.. Тетя Эля, не надо! Я не хотел, я нечаянно!..»
«Ах-ах! Нечаянно и незаметно для себя…»
«Я больше не буду!»
«Естественно. Не хватало еще, чтобы ты расписал себя пиратскими тотемами с ног до головы… Мы должны остановить этот вопиющий процесс…»
«Я уже все понял! Я соскребу!..»
«Придется очень долго соскребать с руки и со своей совести… Спасибо, Тасенька, именно такой…»
«Не на-адо! Ну я же…»
«А ну стой!.. Людмила Григорьевна, подержите его за лямочки…»
«Эльза Яковлевна! Тетя Эля! Вы же образованная женщина!.. Ну пусть хоть Таська уйдет! Уходи, дура!.. А-ай!..»
Надо сказать, что «кленовая доза» оказалась небольшой, но запомнилась на всю жизнь. Так же, как хихиканье Таисьи, которая никуда не ушла, а лежала животом на подоконнике, и губы ее пузырились от удовольствия.
Но радовалась Таська зря: возмездие скоро настигло ее. На следующий день я, Чук и Бамбук поймали доносчицу, когда она шла с рынка, утащили за поленницу («А-а-а, я все про вас расскажу!»), накинули ей на голову вздыбленный сарафан, завязали его сверху лентой из ее тощей косы и в таком виде пустили вредину с разгона в крапивную чащу. «А-а-а-а-!!»
— Наверно, потом она опять нажаловалась на вас? — боязливо заметила Маша.
— Разумеется. И снова Эльзе Яковлевне. Но в ответ услышала, что «мальчики поступили вполне закономерно, потому что ябедничество — большой грех». Такая реакция на Таськину жалобу примирила меня с тетей Элей (а также с бабой Люсей, которая согласно кивала).
Ребята за татуировку меня зауважали. А когда узнали про бабушкины меры — еще больше. Сейчас бы сказали, что мой рейтинг повысился на несколько пунктов. В те времена таких слов не знали, но когда мы с Чуком остались вдвоем, он погладил пальцем мое «колечко» и сказал тихонько: «Мы теперь с тобой как побратимы…»
Все испытания стоили того…
Маша спросила шепотом:
— И вы с ним… так и стали, да?
Удальцов покивал седой гривой:
— Так и стали… «Мой первый друг, мой друг бесценный!» Да мы все были такие, пацаны с Пристанских кварталов… Где-то вы теперь, друзья-однополчане…
Старик опять пригорюнился. Мак спросил, чтобы развеять его:
— А бабушки потом на вас долго сердились?
— Что?.. Да совсем не сердились. Они, видимо, считали, что выполнили свой воспитательский долг, а дальше… Что возьмешь с глупого мальчишки?.. Баба Люся вскоре уехала в деревню, а Эльза Яковлевна была с нами до конца. Кстати, она дотянула до девяноста трех лет. Бывало, даже в мои студенческие годы она поглядывала на мой «тотем» и напоминала: «Имей в виду, голубчик, пока ты окончательно не соскреб это клеймо, я считаю себя вправе прибегнуть в случае нужды к прежним методам…»
— Но больше не прибегала? — хихикнул Мак.
— Что ты! Мы с ней жили душа в душу. Правда, со временем у нее появился недостаток: она стала терять память и порой по нескольку раз развлекала нас одними и теми же историями из давней жизни. Впрочем, довольно интересными… Или забывала, куда спрятала какую-нибудь вещь. Я уж не говорю об очках: они у нее исчезали дюжинами. А также записные книжки, авторучки, ножницы… Попросит у меня фонарик, чтобы посветить на полках, и пиши пропало…
Когда мне было пятнадцать лет, случился в нашем деревянном доме пожар. В общем-то квартира сгорела не полностью, потом отремонтировали, но пострадало много имущества. Тете Эле удалось спасти лишь свой любимый сундучок. Она его берегла и никому не давала в него заглядывать. Она схватила сундучок, выскочила с ним на улицу… А потом всю жизнь с ним не расставалась, держала под кроватью и каждый день проверяла: там ли он…
После похорон тети Эли мы разбирали ее вещи и наконец заглянули в сундучок. Ничего таинственного в нем не было. Письма давних подруг, альбом со стихами, тетрадки с отрывочными записями, платочки, свечные огарки, томики Ахматовой и запрещенного тогда Гумилева… И вот среди книжек я нашел ту, которую потерял еще в детстве. Наверно, тетя Эля взяла ее почитать, потом сунула в сундучок и напрочь забыла о ней. А я был уверен, что книжка погибла при пожаре. Конечно, я «утянул» ее к себе… Ох, да я совсем вас заговорил! Кажется, даже самовар остыл!
Самовар не остыл. Константин Петрович принес тарелку с пирожками, чашки, ложки. Чайник с заваркой.
— Устраивайтесь, друзья…
Устроились, выпили по чашке, сжевали по пирожку. Но Мака не отпускал вопрос: