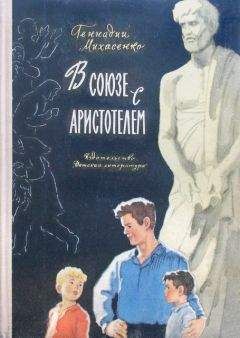— Ну, что же делать-то будем? — переспросил Петька Лейтенант.
— Я вот щас приду домой, хлобыснусь на пол и три дня не подымусь, — сообщил Колька. — И дыханье зажму, и мёртвым представлюсь, пусть мамка не суёт в другой раз эти чуни.
— Давно бы скинул, чем ныть-то, — упрекнул Шурка.
— Нет уж. — Колька швыркнул носом. — Я уж как-нибудь доплетусь, хлобыснусь на порог и дыханье зажму…
— Заладил, — перебил Петька. — Давайте лучше сегодня бузить! Кому-нибудь выхлестнем стекло или трубу с крыши заткнём, а? А!! Давайте Граммофонихе отомстим! Кольк! — Он схватил за руку еле шедшего Кольку. — Давайте придумаем такое, чтоб она заикаться начала! — Петька оборачивался то к одному, то к другому. — Слышали, что она про меня болтанула? Не слышали? Что я — вор! Что я у неё все яйца перетаскал. Её куры от меня шарахаются. Раз, говорит, шарахаются, значит, знают они меня, значит, яйца я таскаю. А от меня не только куры, но и собаки шарахаются, что же, выходит, что я и собак ворую?.. Хы! Вор!
— А я, говорит, гусям её головы свинчиваю, как гайки, — припомнил Колька.
— Во-во! Мы ей покажем!
Колька оживился. Его кислая, унылая физиономия обратилась в ликующую и радостную. Он сразу позабыл про тяжёлые сапоги.
— Здорово! — воскликнул он. — Надо её на кладбище заманить, а самим нарядиться в белое.
— Ага, — говорю я. — Заманим мы, а ты в белое наряжайся и ступай к мертвецам.
— Почему я? — заволновался Колька. — Лучше Петьку. У него вон штаны военные, черти его побоятся.
— А что? Я пойду! — не моргнув глазом, ответил Лейтенант.
Я был уверен, что Петька в самом деле пойдёт, закутается в простыню и пойдёт на могилки и не только Граммофониху, но всех чертей и ведьм, если они там есть, насмерть перепугает. Но Граммофониха… Её ведь туда никакими приманками не затянешь.
Я так и сказал ребятам.
Шурка поддержал:
— Да-а, на могилки её не заманишь. А её можно и без могилок, дома пробрать! Знаете как? — И Шурка предложил план, который мы с восторгом приняли.
Возле нашей ограды разошлись, договорившись собраться у меня.
Мамы ещё не было.
— Может, к нам заглянем? — предложил вдруг Витька. — Модель посмотришь. Толик, наверно, закончил её.
— У меня сапоги грязные.
— Разуешься. Пошли.
В сенях я разулся, открыл дверь и сразу же запутался в марлевой занавеске, спускавшейся с притолоки прямо до пола.
— Ничего-ничего! — успокоил меня Толька. — Это от мух, а не от людей. Ты что ж, Витёк, не предупредил гостя!
Из горницы вышла бабка Акулова с подушкой в руках. Она, очевидно, всё ещё перетрясала залежавшиеся вещи, может, уже во второй раз.
— Явились, христовые. О господи! Рубашка-то, рубашка!
— Вы на штаны гляньте, на ботинки, на лицо! — почти с гордостью перечислял Витька, поворачиваясь на свету. — Хорошо? — Тут он вдруг поймал Тольку за рукав. — Толик, а как я научился бичом щёлкать! — Он поглядел на меня. — Миш, ты чего стоишь? Иди сюда, скажи, крепко у меня получается?
— Крепко, — ответил я, продолжая стоять у порога и оглядывая всё вокруг.
Справа от двери стояла громоздкая русская печь, такая же, как у нас. Слева у окна висела полка, полузакрытая марлевой же шторкой, уставленная многочисленными разноцветными флакончиками с бумажными наклейками. На краю полки я неожиданно увидел воронку, ту самую, через которую Кожиха вливала себе в рот чай. Мне вдруг стало так не по себе, что я бы, наверно, утёк, не будь сзади занавески.
— Смотри-ка! — отвлёк меня Витька, показывая рукой за печь.
Я сделал несколько неловких шагов и, вытягивая шею, заглянул в угол. То, что я увидел, было совершенно неожиданным. На гвозде, вбитом в стену, на шнурке висела какая-то белая худенькая и чуть прозрачная штуковина, похожая на самолёт, с крыльями: два спереди и два в хвосте. Крылья были обтянуты тонкой папиросной бумагой, такой же, из которой мы с мамой мастерили под Новый год ёлочные игрушки. Сквозь эту бумагу виднелись рёбрышки, тоненькие-тоненькие. Крылья соединяла рейка в карандаш толщиной, а впереди, в самом начале, — нос, широкая, с ладонь, фанерная лопатка.
— Модель?
— Модель, — ответил Витька. Он подошёл к планёру, снял его со шнурка, взялся за середину и, уравновесив на пальце, стал покачивать, будто взвешивая.
Я вдруг, сам не зная с чего, дунул в крыло. Планёр проворно перевернулся и, прежде чем Витька успел подхватить его, шлёпнулся спиной на пол, только прошуршала папиросная бумага.
Я остался неподвижным, испуганно хлопая глазами.
— Как же так? — спросил тревожно Витька.
Я молча помотал головой из стороны в сторону: мол, не знаю, как это получилось.
Витька вдруг рассмеялся, живо подхватил планёр с пола и повесил его на место.
— Думаешь, он сломался?.. Нет! Если он от этого будет ломаться, то что же с ним станется, когда мы его с крыши сбросим… Толь, он просох?
— Не совсем… Вы перейдите с Мишей к окну, я тут сор немного подберу.
Бабка Акулова, задевая отзывчивую заслонку, возилась у печи, ворочая ухватом, собирая на стол. Толька заметал в кучку мелкие стружки и собирал их в ладонь, согнутую ковшичком. Ладонь была забинтована.
— Наверное, ножом зацепил, — сказал я потихоньку Витьке.
— Нет. Это мы вчера помогали тёте Лене дрова складывать, и он занозился. Длинная заноза, пришлось даже кожу бритвой резать.
Вот, значит, я шатался где-то, а тут… Мне вдруг захотелось сделать для Кожиных что-нибудь такое, чтобы при этом или раздробить себе палец, или нажить здоровенную шишку, или ещё что-нибудь в этом роде, и я спросил:
— А вам дрова скоро привезут?
— Ну как скоро? Когда наймём, тогда и привезут, — ответил Витька.
Зажгли лампу, и на улице мигом потемнело, точно вся темнота сгрудилась у окна, чтобы только посмотреть на керосиновый огонёк.
Раздался стук в окно. Все оглянулись. К стеклу прилипла чья-то физиономия и вращала глазами. Выше приплюснутого носа блестел железнодорожный крестик.
— Петька, — спохватился я и выбежал.
У ворот стояли Петька с Колькой, а у ног их на земле лежала здоровенная тыква.
— Ого! — удивился я.
— В самый раз! — гордо заявил Петька. — А эти-то, «спаянные», придут?
— Ничего они не спаянные, а нормальные! А Толька знаешь какую модель сделал!
— Кого?
— Модель.
— Какую модель?
— Такую! Она летать будет!
Прибежал Шурка. Петька подхватил тыкву, и мы ввалились в наш двор. Мама уже была дома и что-то, как всегда, жарила. Друзья уселись на коротыш к печке, я на миг прильнул к маме и присоединился к ним. Шурка взял мой складень и начал потрошить тыкву, вырезав у неё четвертушку, чтобы просовывать руку внутрь.
— Уши, Саньк, продырявь, — предложил Колька.
— Не к чему. Уши спереди не увидишь.
— Тогда брови какие-нибудь этакие! Эх, зря я оставил дома свой сапожничий! — Чувствовалось, что Кольке здорово хотелось встряхнуть Граммофониху.
Тыква принимала мрачный, пугающий облик: решётчатый оскал зубов, тонкий длинный нос, огромные провалы глазниц. Шурка то и дело отводил эту скелетную образину в сторону, прищурив глаз, пристально рассматривал её, неудовлетворённо двигал губами и опять брался за нож, терпеливо, чёрточку за чёрточкой, добавляя ужас в тыквенный череп. Мы, окружив Шурку, дивились и радовались.
— Хватит, Саньк, а то перебачишь, — заметил Петька.
Перелез через ограду Витька.
— Ты посмотри на эту морду, — подтолкнул я его.
— У!.. В городе на электрических будках вот такие же физиономии намалёваны. По-моему, вашей Патефонихе дурно будет!
— Вот и пусть! — сказал Колька.
— А может, не надо? — усомнился Кожин.
— Кому не надо, а кому надо, — рассудил Шурка. — Мы не заставляем.
— Как бы чего не случилось, если сердце слабое, — предостерёг Витька.
— У кого сердце слабое, у Граммофонихи? — изумился Петька. — Да у неё дизель, а не сердце! Это ещё надо посмотреть, что она в себя вливает: чай или солярку! Хых, слабое!
— Не знаю, не знаю! — по-матерински оговорился Витька и глянул на меня, словно ища во мне союзника.
Вообще-то лично мне Граммофониха никакого зла не причинила, и у меня не было на неё зуба, если задуматься, но поскольку остальные пацаны кипели местью, то и мне казалось, что я тоже крайне обижен этой тёткой и не просто за компанию участвую в деле, а из кровного интереса.
Мама подозрительно покашивалась и на нашу поделку, и на наши энергичные перешёптыванья, потом спросила:
— Это куда же вы снаряжаетесь?
— Играть, тётка Лена, — простецки соврал Петька и тут же расписал придуманную вмиг игру. — Это вроде партизан. Двое несут тыкву, у тыквы глаза красные, а двое из-за угла в неё картошками швыряют. Если, значит, тыква уцелеет, то победили, а если треснет, то — разгром.