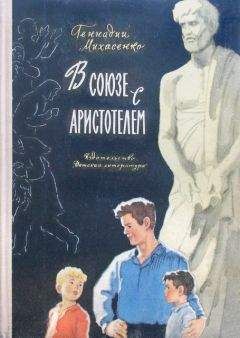Внезапно Колька понял, что нет, это не из-за Граммофонихи, что это не наказание за шалость, а что-то другое, страшное и непонятное…
Человек между тем торопливо обшаривал Кольку. Он, путаясь в прорехах, лазил в карманы, за пазуху. Он чего-то искал, искал — не находил и вновь совал свою дрожащую руку в Колькин карман. Колька начал судорожно биться, не соображая, что к чему. И ему снова удалось сдёрнуть со своего рта ладонь, удалось повернуться под человеком. Его обдало гнилым, вонючим дыханием, и он глотал этот дрянной воздух, силясь крикнуть. Но крик не получался, потому что грудь была сдавленной. Кольке в глаза упали чужие волосы. Колька подумал, что ему выкололи глаза, что он ослеп. И тут он пустил вопль.
Человек вскочил, метнулся в сторону амбара и будто проник прямо сквозь амбарную стену.
Колька сел. Он трясся, дыша с каким-то шипением, как рассерженный гусак. Встать на ноги не было сил. А вдруг этот дьявол вернётся? Колька поднялся и пошёл неверными шагами. Дом был почти рядом. Колька щёлкнул крючком и опустился на порог, припав головой к косяку. Губы его задёргались, явились слёзы, и он всхлипнул.
— Колька, ты? — спросила проснувшаяся мать.
— Я.
— Ревёшь ты, что ли?
— Реву… — Колька встал, в темноте привычно бросился к кровати матери, ткнулся лицом в одеяло и, глуша голос, зарыдал.
— Что ты, Коль?
— Мамка, — заговорил он сквозь плач. — Мамка… Спишь и вовсе не знаешь, что меня под окном, у амбаров душили…
Тётка Аксинья поняла, что это не шутка. Колька почти никогда не плакал. Она откинула одеяло, быстро поднялась с койки, зажгла лучину. Колька был весь в пыли, заплаканный, с грязью на щеках. Тётка Аксинья охнула и присела перед ним.
— Сынка, как же так? — Она шершавой ладонью, нажимая до боли, вытерла под глазами слёзы. — Сынка, кто ж это?
— Кабы знать.
— А что он делал-то?
Колька рассказал.
Тётка Аксинья заплакала. Но у Кольки уже обсохли глаза, и он принялся утешать мать, тряся её за плечо.
— Ты, мамка, не хнычь, нервы не выматывай… Жив я, чего ж тут слезиться… Хорошо, что я нож-то дома оставил. А не оставь я нож дома — этот чёрт, или кто он там, так и знай — отобрал бы.
— Какой нож?
— Тот, которым Хромушку зарезали, — сапожничий. Мы его подобрали, прямо из раны выдернули.
Тётка Аксинья вдруг насторожилась и строго спросила:
— Где он?
— Нож-то? Я его за печку спрятал.
— А ну-ка, покажи.
— Нет уж, картошку им чистить я не дам, — запротестовал Колька.
— Покажи, говорю.
Колька достал нож:
— Вот он. Знаешь, какой острый!
Тётка Аксинья поднесла нож ближе к лучине и пристально оглядела со всех сторон. Потом стала развязывать грязную, промасленную тряпку на ручке.
— Не надо, мам. Её потом не намотаешь так ловко.
Но мать не ответила, продолжая разбинтовывать нож. Тряпка ссохлась и слиплась, поэтому раскручивалась с потрескиванием.
— Да зачем ты портишь! — возмутился Колька. Он забыл уже про свои слёзы.
— «Зачем-зачем»… А может, под тряпкой-то фамилия того самого разбойника значится. Может, он ради ножа тебя и тискал. — Видя недоумевающий взгляд сына, добавила: — А чего? Пронюхал, что он у тебя, ну и спробовал отнять.
Тряпочка упала на пол. Тётка Аксинья склонилась ниже. Колька тоже сунул голову. При слабом жёлтом свете лучины они разом разглядели слово «ТИМ», нацарапанное на чёрной рукоятке. Нелепые, но чёткие буквы стояли не рядом, а с разрядкой: «Т И М».
Колька удивился:
— И правда фамилия. Тим. По-каковски это?
— По-русски.
— В деревне у нас Тимов нету.
Тетка Аксинья задумалась, потом снова посмотрела на нож, повторила:
— Тим. — Вздохнула. — Холера его знает… Ну, вот что, сынка, ложись спать. Мы сыщем этого баламута. Я завтра Дарье покажу вашу трофею… Погоди-ка, поверни рожу-то ко мне… Ишь как ссадил. — Она принялась счищать грязь с царапин. — Терпи-терпи.
Колька терпел. Он только морщился и цедил сквозь зубы воздух.
Он редко спал с матерью. Сегодня он забрался к ней. Тревожно было мальчишке.
Меня оглушил Колькин рассказ. Мама ничего не сказала и, задумчивая, отошла.
Я оглядел ссадины на Колькином неожиданно чистом лице и сразу представил, как он растянулся на земле и как огромный человек, словно медведь, навалился на Кольку и принялся холодными руками, как щупальцами, лазить по его телу. Мне стало страшно. История Хромушки, успевшая притонуть в памяти, всплыла теперь и тяжело заполнила воображение. Тёмная неподвижная фигура, застрявшая в тальнике, вдруг ожила, и я отчётливо представил, как она притаилась уже не в зарослях, а за углом амбара, чтобы ничего не подозревающего Кольку сбить с ног. Я даже увидел его когтисто скрюченные пальцы… Откуда же этот зловещий человек и что ему нужно от нас?
— Мамка сказала, что это кто-то из наших деревенских, — наклонясь ко мне, шёпотом произнёс Колька.
— Но?
— Да-а! Дед Митрофан так же говорил!
— Как же из наших, когда все кругом знакомые?
— А я почем знаю.
— Не может быть!
Под окном щёлкнул бич и раздался Петькин свист-шипение.
Мы выскочили на улицу, и Колька прямо с крыльца крикнул, что он знает тайну.
В это время хлопнула дверь Кожиных.
— Вить, скорей сюда! — позвал я.
А Колька уже, размахивая руками, обрисовывал ночное нападение. Прежнего волнения в его голосе не было. Теперь Колька будто пересказывал прочитанное.
Когда он кончил, ребята некоторое время молча смотрели на него, потом Петька выдохнул:
— Вот пёс!
Витька испуганно повторял:
— Неужели правда? Неужели правда?
— Вот что, Колька, — сказал Петька Лейтенант. — Сегодня ночью мы с тобой вместе пойдём к вам. Пойдём мимо амбаров. Ты будешь первым идти, а я вторым. Как только он на тебя бросится, я подскочу и его — в спину.
— Чем? — спросил я.
— Обухом его тюкну.
— Нет уж, — отказался Колька. — С меня будет. Иди-ка ты первым, а я сзади.
— Дурак. Ты же испугаешься. Он кинется на меня, а ты, как заяц, тикать.
— А! Гляди-кось, какой храбрый.
— А если испугаешься, так не разглядишь да и меня вместо бандита по черепку трахнешь.
— Хватит болтать-то, — перебил Шурка. — Вы думаете, он снова будет подкарауливать? Как бы не так. Он теперь упрячется, ровно крыса… Мать, говоришь, взяла нож-то?
— Взяла. Хочет тётке Дарье показать.
— Значит, сыщут, раз фамилию нашли, — уверенно произнёс Шурка.
— Тим, — повторил вдумчиво Петька. — В соседней деревне вроде есть Тимы.
О Граммофонихе мы позабыли. Тут было не до тыквенного пугала, когда такое творится.
Бандит в деревне! А мы шляемся допоздна. Может, он давно охотится за нами? Может быть, мы не раз проходили мимо него, спрятавшегося где-нибудь за плетнём? Может, он потому только и боялся нападать, что нас было много? Что же это такое?.. Откуда? Не напутал ли чего Колька? Не приснилось ли ему?
Дед Митрофан, когда мы рассказали ему о новом происшествии, хлопнул по коленям и неожиданно принялся ругать себя:
— Старый пень, а! Как есть, лишился рассудку. Ночью-то я спал. А ведь могло оборотиться в бедствие. Коровы-то спят открымши! — Дед вдруг спохватился и засеменил к коровьему стаду под навес считать скотину.
Мы выгнали овец.
За ночь небо не расчистилось. Воздух был сырым и прохладным. Таёжные дали, не расцвеченные солнцем, серели однообразно. Всё сулило непогодь, всё навевало тревогу.
Разговор не клеился. Мы чувствовали, что сейчас в правлении распутывают преступные следы и что к вечеру всё, наверное, выяснится окончательно. Поэтому хотелось, чтобы день пролетел быстрее, хотелось подтолкнуть его, как буксующую машину. Но он не спешил.
Мы долго топтались у зарослей на памятном месте, где была зарезана Хромушка. Сохранились даже пятнышки крови на траве — дождя-то не было. Заходили в тальник, в котором укрывался злодей, топча ветки. Но гибкие молодые талины успели выпрямиться, и ничто не говорило о том, что здесь был человек.
Домой погнали овец раньше — не терпелось.
На скотном дворе нас поджидала тётка Дарья и Аксинья, мама и дядя Андрей — милиционер. Мы поняли, что начинается нечто неслыханное до сих пор. У дяди Андрея на боку висела кожаная кобура. Она часто болталась у него на поясе и всегда пустая, как осенняя скворечня. Мы даже думали, что нету у дяди Андрея никакого оружия. Но сейчас из застёгнутой кобуры торчал серый затылок револьвера.
— Загоняйте, — поторопила тётка Дарья, видя, что мы растерянно остановились. — Только тихо… Загоняйте и заходите в сторожку.
Овцы без особого желания лезли в свою кошару. Лишь забегут во двор — тотчас рассыплются по всем углам: и в конюшню, и в телятник, и под коровий навес. Обычно мы орём на них. А тут действовали бесшумно, да и сами овцы будто понимали, что не время сейчас для капризов.