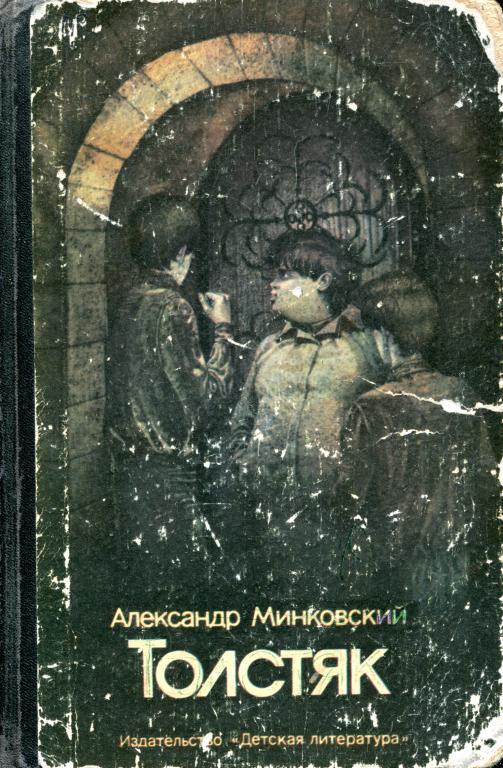согласился учитель. — Но нас интересует не только его национальная принадлежность.
— Он… Талейран был… был…
Мне стало жаль его. Я не сторонник подсказок, да и в истории не силен. Однако Арский, наш лучший спец в этой области, молчал, будто воды в рот набрал, не отрывая взгляда от лежавшей перед ним тетради. А ведь они дружат со Старкевичем и сидят на одной парте. Трус.
Я поднес ко рту сложенные рупором ладони.
Учитель глядел на Старкевича, обернувшись ко мне спиной.
— Министр… — шепнул я.
Он, по-видимому, услышал, потому что глянул в мою сторону и сделал знак глазами. Я повторил:
— Минииистр…
— Ну так как — скажешь нам или нет? — допытывался учитель.
— Скажу, конечно, почему не сказать, — оживился Старкевич. — Вспомнил наконец, пан учитель. Талейран был французским коммунистом.
От хохота в классе задребезжали оконные стекла. Не смеялся только Халас. Он медленно снял очки с толстыми стеклами и аккуратно протер их платком.
— Коммунистов на этот раз мы оставим в покое, — произнес он, вновь водружая очки на место. — А вот с матерью твоей мне поговорить придется. И ты, будь любезен, пригласи ее в школу. Пусть она узнает о том, что в четверти у тебя будет двойка. За глупые шуточки. Садись.
— Пан учитель! — взмолился Старкевич.
— Садись, тебе сказано!
Звонок. Как только Халас вышел из класса, Старкевич бросился ко мне.
— Свинья, — сказал он. — Жирная гнусная свинья.
Я не мог произнести ни слова. Впервые в жизни я так отчетливо понял, что значит несправедливость. Я встал, но говорить мне мешал какой-то ком в горле. На глазах выступили слезы.
— Решил отомстить таким образом? Сводишь счеты за шутку с ботинком?
Я знал, что теперь против меня весь класс. Дружно хохотавшие минуту назад, они теперь смотрели на меня с нескрываемой враждебностью. Флюковская — та даже сплюнула.
— Ты плохо расслышал, — ответил я наконец каким-то сухим, чужим голосом. — Я сказал — министр.
— Ты сказал — коммунист. — Старкевич смотрел мне прямо в глаза. — Я хорошо слышал. Ты сделал это в отместку.
— Неправда! — выкрикнул я, молясь в душе, чтобы никто не заметил застилающих глаза слез. — Я и не думал мстить. Честное слово. Просто ты не расслышал, а громче я не мог подсказать, потому что Халас был рядом…
— Врешь, жирный! — Коваль взял мою авторучку и с размаху всадил ее пером в парту. — Это — наглая ложь.
Авторучку эту, предмет моей особой гордости, отец подарил мне на день рождения. Ее золотое перо писало ровно, совсем не царапая бумагу.
Сейчас оно расщепилось от удара. Язычок, поддерживающий его, отломался и упал на пол. По парте потекла тоненькая струйка чернил.
— Я не вру, — прошептал я.
— Докажи. Чем докажешь?
А как тут докажешь? Положение мое было безнадежным. На первой парте я сидел в одиночестве — никто не захотел садиться со мной. Шепот мой мог расслышать один только Старкевич, но именно он расслышал его неправильно. Как я докажу им, что ни о какой мести я и не думал, что мне просто стало жаль Старкевича, потеющего у доски, что я хотел спасти его от неминуемой двойки и что намерения мои были самыми лучшими?
Я открыл было рот, но, так ничего и не сказав, снова закрыл его. Кольцо неподвижных, суровых лиц по-прежнему тесно окружало меня.
— Не знаю, как мне доказать вам, — сказал я тихо. — Можете думать что хотите.
Я направился к выходу. Никто не помешал мне, никто даже не крикнул вслед: «Толстяк», «Бочка», «Кит». Класс молчал. Словно я совершил тягчайшее преступление.
До этого момента я еще надеялся найти общий язык с седьмым «Б», думал, что со временем они привыкнут ко мне или хотя бы оставят в покое. Теперь у меня не оставалось и этой надежды. Я не сделал ничего плохого, абсолютно ничего, и тем не менее никто не поверил мне, никто не пришел на помощь.
В полном одиночестве я вышел на школьный двор. Идти домой тоже не было охоты. Если бы Яцек не отрекся от меня, если бы у меня был хоть один друг, мне было бы намного легче. Но я был предоставлен самому себе.
— Ты уронил тетрадь!
Я оглянулся. Тетрадь лежала на бетонной дорожке. Оказывается, я забыл застегнуть портфель. Я машинально поднял тетрадь и тут только понял, что о тетради мне сказал одноногий Май. Он улыбнулся, видимо узнав меня.
— Спасибо за закладку, — сказал он. — Я заходил тогда к тебе.
— Ты учишься в этой школе? — спросил я. — Почему же я ни разу не видел тебя в коридоре?
— На переменках я обычно сижу в классе. А тут еще я болел и только третий день как вышел.
Он шел почти рядом, чуть отставая и стуча по тротуару деревянной ногой. Я пошел чуть тише, чтобы ему было легче поспевать за мной.
— Ты в каком классе? — спросил я.
— В седьмом «В». У тебя, кажется, была какая-то стычка с Ковалем и Гроздом? А знаешь, Коваль, но существу, очень хороший парень.
— Сомневаюсь, — хмуро заметил я.
— Хороший, — повторил Май. — Нужно только уметь с ним ладить. В прошлом году он заступился за меня перед хулиганами. Один с четырьмя справился. А у меня он часто берет читать книги, очень любит про путешествия.
— И он не дразнит тебя?
— Никогда. Мне-то, собственно, вообще плевать на насмешки — пусть себе болтают, лишь бы рукам воли не давали. А где же твой друг?
— Какой друг? — Я сделал вид, что не понимаю, о ком он спрашивает.
— Ну тот, с которым ты был на озере и возле цирка.
— Ах, этот? Никакой он не друг, — сказал я как можно равнодушней. — Просто знакомый.
— Он учится в седьмом «А»?
— Да, но мы с ним больше не дружим. Он в «А», я в «Б», сам понимаешь, — пустился я в объяснения.
— И ты ни с кем не дружишь?
— Нет, ни