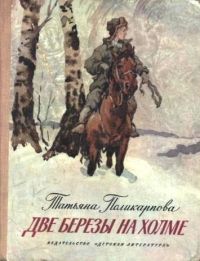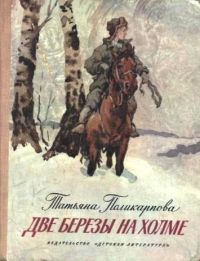Плохие вести
В школе обрушились на нас те самые плохие вести, которые я своими вчерашними стихами накликала.
Прямо в школу на уроки нам доставили из сельсовета телефонограмму о том, чтобы мы в эту субботу оставались на месте. Не ждали бы лошадь. Не будет лошади. А продукты нам подкинут на неделе.
Само собой разумелось, что идти пешком после уроков нельзя. Строго воспрещается. В конце января, так же как и в декабре, день смеркается рано. В пять часов уже как ночью. А за время войны развелось много волков. Ружья-то у охотников отобрали. А кроме того, что своих прибавилось, появились волки пришлые. Звери ведь тоже спасались от войны. В нашей местности никогда не водились лоси. Никто их не видел, не слышал. А тут они даже в маленькие деревни стали заходить, к стожкам — покормиться сеном. Наверное, и другого зверья прибавилось. Лис, так это точно. Всякий раз в дороге мы видели на снежной целине играющую огненную лиску. «Лиса мышкует», — говорил Степка Садов: играет над мышиной норкой, а то уже поймала и играет, как кошка.
Зайцев было много. Опушка леса просто истоптана зайцами. Ну, это все хорошо. А вот волки… Они наводили ужас на пастухов. Нападали на одиноких путников и даже на подводы. Заходили и в села.
Моя мама, возвращаясь как-то из конторы поздно ночью, пошла проведать корову. И, подходя к хлевушку, увидела, что на крыше его сидит на корточках человек. Мама окликнула: «Эй, кто это там? Что вы делаете?» Тогда человек поднял опущенную низко голову, и мама увидела, что это волк. Наверное, он хотел разгрести кровлю хлева, как это делал уже, по-видимому, и раньше. Но у нас крыша была не соломенная — дощатая. Волк не знал еще. Мама закричала на него: «Пошел вон! Уходи, волчище!» И стала кидать в него щепками, комьями снега. И только тогда, и то нехотя, помедлив и подумав, волк спрыгнул с крыши по ту сторону хлева. Волки не боялись теперь и взрослых людей.
Рассказывали страшные вещи: как пришло однажды стадо без пастуха, недосчитались и многих овец и нескольких телок. Это прошлой весной. Пошли искать пропавших. И нашли пастуха мертвого и совсем голого, растерзанные клочья одежды валялись тут же. На теле же человека не было ни одной царапины, ни укуса. И не задушен он был: умер от разрыва сердца, когда его одежу драли волки. А пропавших овец и телок не нашли. Потом только, летом уже, в лесу обнаружили возле покинутого логова обглоданные крупные кости.
Вот почему нам не велено было идти домой после уроков пешком. И почему мы не смели даже отпроситься из школы пораньше: нас все равно не отпустили бы.
Я с тоской смотрела в окно, улавливая в длинных холодных тенях на снегу примету близких сумерек. Еще было совсем светло, но тени ползли, удлинялись; тень нашей школы заползла уже дальше середины двора. Это значит, шел последний урок.
Вдруг меня резко толкнули в спину. Я вздрогнула, обернулась было, но тут достиг моих ушей сердитый оклик учительницы:
— Плетнева, а Плетнева!
На меня смотрели в упор красивые карие глаза Анастасии Ивановны, она, видно, не первый раз окликала меня и теперь сердилась: вздрагивали тяжелые стреловидные ресницы. Я поднялась, и на меня громом, лавиной обрушился учительский гнев:
— Плетнева, а Плетнева! Долго мне тебя звать? Десять минут невозможно ее докричаться!
Я медленно встала и, возвращаясь из забытья, сказала, о чем думала:
— Темнеет. Мы нынче без лошади…
И в ужасе, что теперь все погибло и нас не пустят, села, не дожидаясь позволения. Щеки мои наливались жаром. Я боялась оглянуться на своих и обреченно смотрела в красивое, злое лицо учительницы, невольно замечая, что ее портит гневный прищур, — лицо, искажаясь, делается старше, жестче.
Однако мои слова вызвали сочувствие в классе: в субботу каждому хочется попасть пораньше домой: бани же топят и вообще… Со всех сторон понеслись длинные вздохи. Но недаром в школе боялись красивой Анастасии.
— Обезлошадели, совхозные аристократы? — осведомилась она, светлея насмешливым взором из-под ресниц. — Ничего-о! Веселее побежите в сумерки. Они зимой длинные. А то разбаловались лошадьми… Небось вон Антипова да Галиева на своих двоих добираются каждый день.
Она будто и знать не хотела, что Тоне и Галии по три километра надо пройти, а нам — около двенадцати.
И я увидела, как сидящая впереди меня маленькая Вера опустила низко голову, сжала плечи: ей было стыдно за старшую сестру, за ее несправедливость.
Вот интересно, ругаются они дома из-за нас? Вряд ли с Анастасией долго поругаешься. Да и ростом она большая, а Вера — крошечная. Хорошенькая и маленькая, как Дюймовочка. Глаза у нее, как и у сестры, большие, прозрачно-карие, цвета крепкого чая, когда он налит в папин хрустальный стакан. И пухлые, капризные губки, и чистый, широкий и высокий лоб. Только сама маленькая. А Анастасия — высока, длиннонога. Смотрит на всех сверху вниз. Я еще не видела женщин красивее, чем она. И руки у нее были прекрасные, лучше, чем у Марии Степановны. Такие руки я видела лишь на старинных портретах у знатных дам в старинных бабушкиных журналах «Нива».
Не хрупкие и не маленькие, кисти ее рук были ей по росту, под стать. Удлиненные пальцы округлы, с продолговатыми нежно-розовыми ногтями, украшенными четкими белыми лунками.
Что бы ни делала Анастасия Ивановна, меня завораживали движения ее рук. Брала ли она ручку сложенными в щепоть пальцами, и тогда рука напоминала изящный и сильный хищный тропический цветок, виденный мною где-то на картинке. Опиралась ли пальцами о стол, рассказывая нам урок, и тогда кисти рук нежно прогибались, обнаруживая мягкие ямочки у каждого сустава. Писала ли она что-нибудь в журнал, и левая рука праздно покоилась на грубо окрашенном столе, будто внезапно застигнутая сном, и в полусогнутой, притененной ладони тепло, розовато темнела таинственная глубина.
Я могла целый урок созерцать эти руки, удивляясь и восхищаясь ими, как совсем самостоятельными, отдельно от учительницы живущими существами. Теперь я знала, какими были те «барственные холеные руки», о которых читала в книгах. А ведь Анастасия и Вера были из обычной крестьянской семьи. Их было четверо сестер и трое братьев. Братья сейчас на фронте, две старшие сестры, замужние, жили своими домами. Со старыми родителями оставались только Вера и Анастасия. Я никогда не бывала у них, но наши девчата — рядом с Верой жила Душка — говорили, что у них в избе такая небывалая чистота, какую нельзя себе и представить. Что они-де и в коровнике моют полы. А уж в избе стены светло-желтые, скобленые, как из свежего дерева, и все ухватья, и кочерга начищены, а черенки их выскоблены. И кругом белые кружевные накидки и шторки, даже над печным зевом повешена шитая задергушка.
Я вспомнила эти рассказы, глядя на холеные руки Анастасии. Правда, ладошки ее были не мягкие, а, напротив, жестковатые. Однажды было такое: она шла между рядов в классе и дружелюбно похлопала меня по руке за хорошо написанное домашнее задание по арифметике. Загадочной была для меня Анастасия Ивановна. Я восхищалась ею, но не любила. Верку мы никогда не расспрашивали про сестру, неудобно же. Единственно, что мы говорили ей: «Ну и сестра у тебя, Верка, лютая!» А Верка в ответ только посмеивалась. Иногда лишь кричала очередному неудачнику, получившему двойку от безжалостной Анастасии: «А ты учись лучше!»
А сейчас вот Верке было стыдно. Но не Анастасии Ивановне. Она отпустила нас точно по звонку. И мы пошагали. На улице оказалось посветлей, чем виделось из класса, повеселей. И вообще, когда двигаешься, все иначе выглядит. А мы не просто двигались — шли домой. Как только там, дома, могли подумать, что мы останемся, послушаемся! Да одного вчерашнего вечера хватило, чтоб никакие волки, ни метели, ни морозы не могли меня остановить.
Ах, сердце билось радостно! Мороз был, день простоял яркий. Сейчас он угасал, но отблеск его еще держался в воздухе той особой прозрачностью, когда все предметы — ближние и дальние — видятся одинаково четко на фоне предвечернего, ставшего матовым снега и налитого белым, матовым же светом неба.
Какая-нибудь палка, торчащая над заснеженным коньком крыши в дальнем конце деревни, охапка соломы, засунутая в верхнее звено лестницы, приставленной к сеновалу, и все ступеньки этой лестницы, и ворона на голой толстой ветке дерева, стоящего уже за околицей, и прясла, окружившие три стога за последней избой, — все будто выписано тонким и точным пером. А в охапке соломы можно даже сосчитать торчащие соломины.
И вот уже и три стога остались у нас за спиной. Ноздри при дыхании слегка слипались. Это признак, что мороз перевалил за двадцать градусов. Но, видать, перевалил немного, потому что скоро уже и дышалось нормально, и лицо согрелось и не чувствовало мороза. Казалось, что щек твоих касается не колючий воздух декабря, а мягкая ладошка апреля. Я скинула варежки, Степа и Энгельс развязали уши у своих шапок.