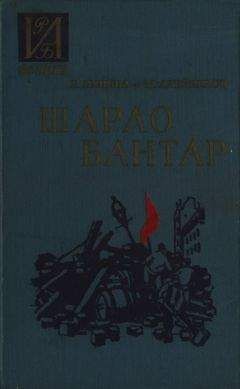Глядя на любимую певицу, величественную в её огненно-алом наряде, публика грянула припев ещё дружнее, с ещё большим воодушевлением:
Вот чернь! Ну что же,
И я таков!
Обращённые к Борда лица сияли. Задрапированная в красное знамя, воодушевлённая словами песни, артистка звала своих слушателей на борьбу. Её пепельные волосы в беспорядке рассыпались по плечам, глаза блестели, протянутая к зрительному залу рука как бы указывала на невидимого врага.
Возбуждённая толпа следила за каждым её движением, готовая по первому призыву двинуться в бой.
Долго не смолкавшие аплодисменты проводили Борда, когда она спустилась с подмостков и скрылась за кулисами.
Оркестр заиграл «Марсельезу», публика и в зале и в парке многоголосым хором подхватила её боевой припева «К оружию, граждане!»
Вместе со всеми Кри-Кри восторженно аплодировал певице, вместе со всеми подпевал «Чернь» и «Марсельезу», но мысль о Гастоне не оставляла его ни на минуту.
Он пробрался через густую толпу и вышел в сад.
Мари уже давно распродала все цветы и стояла с пустой корзинкой.
— Гастона нет! — грустно сказала она, не спросив даже, что видел Кри-Кри в театре.
Не только Мари и Кри-Кри — никто из десяти тысяч собравшихся на праздник в парк Тюильри не угадал бы, какая причина задержала Гастона Клера, ибо никто не подозревал, что для народного, революционного Парижа настал последний час испытаний. Напротив, все расходились возбуждённые и ободрённые, с надеждой на победу.
Когда окончился концерт, на эстраду взошёл офицер главного штаба и торжественно провозгласил:
— Граждане! Тьер обещал вчера войти в Париж. Он не вошёл и не войдёт! Я приглашаю вас сюда в следующее воскресенье на наш второй большой концерт в пользу вдов и сирот!
В этот самый час версальские войска входили в Париж.
С утра 21 мая триста вражеских морских и осадных орудий подвергли ожесточённой бомбардировке крепостную ограду Парижа. Огонь версальских штурмовых батарей с фортов Исси, Ванв и из Булонского леса, направленный на западные укрепления, достиг небывалого напряжения. Коммунары больше не могли оставаться на этих бастионах, и командование приказало им отойти за виадук[51] окружной железной дороги, чтобы укрыться от уничтожающего огня неприятеля.
Люсьен Капораль, командовавший батальоном у ворот Сен-Клу, в полдень получил приказ оставить бастион. Не мешкая ни минуты, он приступил к его выполнению. Покинув укрепления вместе с батальоном, он тут же расстался со своими солдатами, направился на телеграф и набросал депешу в штаб. В ней он сообщал, что на бастионе оставлено два орудия, и просил прислать лошадей для их перевозки.
Почти одновременно с Люсьеном в помещении телеграфа появился человек в штатском платье, ничем не примечательный по внешнему виду. Он постучал в окошечко, над которым висела надпись: «Выдача писем до востребования», и спросил:
— Корреспонденция на имя Дюкателя есть?
Чиновник пересмотрел пачку писем и отрицательно покачал головой.
По простой ли случайности или так было предусмотрено заранее, но Дюкатель подошёл к столику, за которым сидел Люсьен, и попросил у него огня, чтобы закурить.
Люсьен ничем не выразил удивления или недовольства, когда Дюкатель бесцеремонно наклонился и через плечо командира батальона заглянул в депешу. Бросив на ходу «спасибо» — то ли за спичку, то ли за предоставленные сведения, — Дюкатель поспешил уйти.
Сдав телеграмму в окошечко, Люсьен направился прямо к виадуку, где уже расположился его батальон.
Через двадцать минут, в тот именно час, когда в Тюильрийском дворце закончился концерт и гостей приглашали прийти вновь в следующее воскресенье, на одном из бастионов у ворот Сен-Клу появился Дюкатель с белым платком в руке. Обратившись к версальским траншеям, он крикнул:
— Войдите! Здесь никого нет.
Он совершил своё предательство спокойно, ни от кого не таясь, ничего не опасаясь, — так привыкли версальские агенты к благодушию Коммуны.
Услыхав приглашение Дюкателя, версальский офицер в первую минуту заподозрил подвох со стороны коммунаров и не сразу отдал приказ своим солдатам занять ворота Сен-Клу. Только после тщательной разведки, убедившись, что Дюкатель сказал правду, он решился двинуться вперёд.
Ворота Сен-Клу и два соседних бастиона были заняты версальцами столь спокойно и неторопливо, точно всё это происходило на учении, а не во время ожесточённых боёв.
Так, неожиданно для парижан, этот прекрасный майский день оказался последним днём независимости революционного Парижа.
И в то время как в западной части столицы быстро продвигались колонны версальской пехоты, весь остальной Париж ещё ничего не знал о катастрофе. Кровь коммунаров заливала Нейи, а в других районах шла обычная для столицы жизнь — жизнь, утвердившаяся в ней со 2 апреля, когда на Париж упала первая версальская бомба.
Скрытые агенты Тьера не дремали. Теперь уже совсем открыто они призывали коммунаров прекратить сопротивление. У крепостных валов появились листки — обращение Тьера к парижанам. Он убеждал Коммуну открыть ворота города. В противном случае он угрожал парижскому населению кровавой расправой после штурма, в котором примут участие также и прусские войска.
Враги повсюду сеяли панику, вводили в заблуждение командиров отдельных участков, сообщая им о вымышленных действиях, якобы совершаемых другими командирами. В результате после отхода войск от крепостных валов последние рубежи города оставались без всякой охраны и наблюдения.
Сколь ни грозно было положение на фронте, Коммуна регулярно собиралась и обсуждала новые законы, которые должны были коренным образом перестроить жизнь парижского населения и создать новое общество на обломках старого.
Коммуна разрушила прежнюю государственную машину, созданную буржуазией и приспособленную для угнетения народа. Теперь предстояло возможно скорее наладить работу учреждений, которые должны были служить народу, обеспечить каждому свободный труд, нормальное жилище и питание, упразднить эксплуатацию человека человеком. Надо было дать детям хорошую школу взамен той, где ещё недавно на всех уроках монахини твердили своим воспитанницам, что бедные должны смиренно принимать обиды от богатых, так как якобы этого хочет выдуманный ими бог. Надо было позаботиться об искусстве, о разумных развлечениях для народа.
Ещё накануне очередное заседание правительства Коммуны было посвящено реорганизации парижских театров.
Хотя вопрос этот никак не был связан с мрачными событиями, которые разыгрывались у стен Парижа и угрожали существованию Коммуны, однако вокруг него разгорелись бурные, взволнованные прения.
Депутаты горячились; речь шла о социальных реформах, а ведь это была основа нового общества. Они осуществлялись впервые, и каждому члену правительства хотелось сказать своё слово.
Молодой Карель настаивал на немедленной смене директора театра Большой Оперы Эжена Гарнье.
— Помилуйте! — перебил его с места один из членов правительства. — Не прошло и трёх недель, как мы сменили Перрена. Он был плох, согласен, но Гарнье не успел ещё себя показать…
— У нас нет времени ждать, — нетерпеливо прервал его Карель, стараясь перекричать мощный бас своего противника. — Артисты не должны терпеть лишений. Они вдохновляют бойцов Коммуны, они по-своему помогают нашей борьбе. Из-за того, что…
В пылу спора никто не обратил внимания на тихо скрипнувшие тяжёлые двери. Они пропустили зеленщицу Клодину.
Маркитантка остановилась в нерешительности на пороге, с замирающим сердцем прислушиваясь к горячим, страстным голосам членов Коммуны.
— Гарнье даже не считал нужным настоять, чтобы главные актёры вступили в объединение артистов…
Вникнув в смысл того, о чём здесь говорили, Клодина испытала сложное чувство. Она пришла в восхищение от того, что собравшиеся здесь люди продолжают работать над мирным устройством новой жизни, но в то же время зеленщица недоумевала, как могут народные депутаты заниматься театром, когда над их головой рвутся снаряды.
Потери в батальонах за последние дни были так велики, что маркитанткам приходилось самим уносить раненых и даже перевязывать их, так как сёстры милосердия не могли справиться. Бойцы непрерывно оставались на посту, и некому было позаботиться о пище для них, о вине для их фляжек. Неистовая Клодина решила, не дожидаясь никого, идти в ратушу за помощью.
— Не время говорить о театре, когда в нас стреляют! — вдруг крикнула она, прервав оратора.
Все изумлённо взглянули на маркитантку, только сейчас заметив её присутствие. Председатель собрания, делегат Коммуны по просвещению Жюль Валлес,[52] привстал с места и сказал: