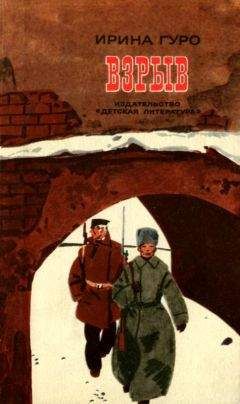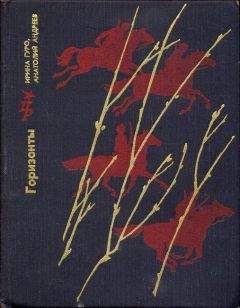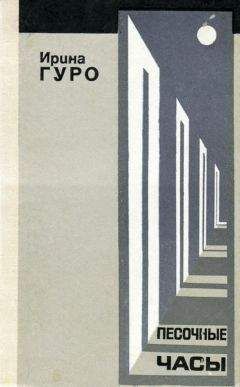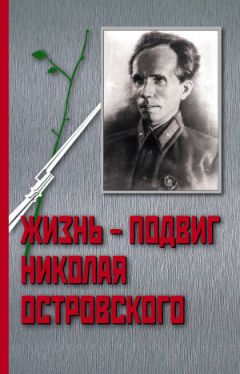Глава шестая
Василий вышел из беспамятства, как выходят из тумана: непонятно, что там было, что окружало его в густом облаке бессознания. Он ничего не видел и не слышал. Что он видит и слышит сейчас?.. Ночь. В окно, ничем не закрытое, он видит ночь. Он узнает ее по редким звездам вверху, по млечной струйке, бегущей среди темных полей небес. Где он?
Ему никак не удается сообразить это. Такой шум в голове. Тысячи молоточков выстукивают в черепе. Они-то и мешают ему услышать что-нибудь… Что-нибудь, что подсказало бы, где он.
Одно несомненно: он никогда раньше здесь не был. Узкая комната с белыми стенами совершенно незнакома ему.
Звуки все еще не доходят до него, но постепенно он начинает различать запахи: пахнет лекарствами, кажется йодом. То, что он видит и обоняет, соединяется и приводит к догадке: он в госпитале. Но почему? Он не чувствует никакой боли. Если бы не шум в голове…
В памяти какой-то провал. В ней застряли слова: «Это Владимир Михайлович Загорский»… «Где, где?»
Он повторяет эти слова про себя несколько раз. И они вызывают в памяти звук: шипение, тихое, как бы вкрадчивое, но чудится за ним еще что-то… И вдруг Василий видит руки Владимира Михайловича, его протянутые руки, которые Василий видел, казалось, очень долго.
Василий поднялся на постели: теперь он уже не мог ни минуты терпеть неизвестность. Что произошло после тех слов: «Где? Где?», после того, как он бросился на это шипение и увидел протянутые руки Загорского?
Василий стал на ноги, и его сразу закачало. Но он преодолел это. И дошел до двери. Она оказалась открытой настежь. Василий увидел длинный зал, едва угадываемая в полутьме его перспектива напомнила ему тот, другой зал… Но как бы при выключенном свете. И, падая, он видел перед собой именно его.
Когда Василий снова очнулся, было уже утро. Узкую комнату с одним окном щедро заливало солнце. На его кровати сидела Вера. При ярком солнечном свете он видел ее лицо отчетливо и вместе с тем как-то со стороны. Может быть, потому, что никогда раньше не видел ее в белом. Ах да, просто она в больничном халате. Но рука у нее тоже белая. Вера прижимает к груди белую, гипсовую руку.
Что это? Он с ужасом вспоминает, что и она ведь была там, в зале… В зале, где случилось что-то ужасное. И он все еще не знает, что.
— Ты ранена, Вера?
— Меня выбросило взрывной волной. Это только перелом.
— Владимир Михайлович?
— Он погиб. Он схватил бомбу, хотел выбросить ее обратно в окно. Чтобы спасти людей… Бомба разорвалась у него в руках.
Вера склоняется над ним, и Василий чувствует, как ее слезы текут по его лицу. И становятся его слезами, которые он не может сдержать и весь отдается им, ослабевший и беспомощный, как ребенок.
Он сам не знал, зачем идет сюда. Что влечет его к печальному этому месту. Как будто он мог лучше уяснить происшедшее, и, может быть, найти себе оправдание, блуждая в развалинах дома, где были погребены дорогие ему люди. Оправдание? Да, чувство вины не оставляло Василия. И хоть разумом он понимал, что не мог ничего предотвратить, в глубине души ему верилось: что-то мог он сделать. Если бы поспеть минутой раньше…
И все начиналось сначала: если бы поспеть… если бы он поспел…
Сколько раз он вместе с Владимиром Михайловичем проходил этим переулком или проезжал на машине! Василию показалось, что он слышит веселый, окающий голос Владимира Михайловича, что тень его небольшой, крепкой фигуры скользнула рядом. Но это была не тень, а огромное пороховое пятно на белой стене дома.
Василий перешагнул через веревку, огораживающую развалины, остановился перед фасадом особняка и замер: такая страшная картина разрушения ему открылась. Горький запах пожара ударил Василию в нос, голова закружилась. Он хотел прислониться к стене и увидел, что она безобразно вспучена и вышибленная оконная рама нависла над ней углом.
Все, все здесь было необратимо порушено.
Но картина разрушения выглядела еще страшнее со стороны сада. Даже толстые опорные балки были переломлены и вся задняя часть дома обрушилась в сад вместе с железными листами крыши. Среди развалин глаз выхватил обломки мебели, осколки зеркала, клочки портьер. И вдруг в стороне Василий увидел откатившийся сюда совершенно невредимый цветочный горшок.
Василий узнал его. Это был тот самый горшок с отростком «декабриста», который принесла и поставила в кабинете Загорского Вера. Растение, расцветающее раз в год, в декабре…
Василий нагнулся над ним — сочные зеленые стебли его еще были живы. Он один уцелел на этом кладбище.
Все здесь, беспощадно разъятое взрывом, весь этот вещный мир как бы подчеркивал человеческую трагедию, разыгравшуюся здесь. И от горького чувства непоправимости у Василия защемило сердце.
Он бродил один среди обугленных развалин, повторяя имена людей, которых знал, которые окружали Загорского, — его друзья, его соратники… Вместе с ними он ушел из жизни.
Он не мог оторваться от зловещего места.
В бессмысленной жестокости этого акта чувствовалась обреченность фанатиков. Василий жаждал встречи с этими людьми, возмездие которым будет высшей справедливостью. Он знал теперь, что привело его сюда. И теперь ему хотелось скорее очутиться среди товарищей. Как хорошо, что он снова среди своих друзей, на Лубянке! Он надеялся, что именно его пуля найдет убийцу. А что розыски убийц идут и кольцо вокруг них все сжимается, — это он знал, и это укрепляло его надежду.
Обогнув дом, он снова вышел на Леонтьевский. Так как уцелевшая часть стены угрожала обвалом, ограждение было выдвинуто далеко на середину мостовой, движение по переулку шло впритирку к противоположному тротуару.
С удивлением Василий увидел мужскую фигуру, притулившуюся у самой стены с повисшей оконной рамой. Фигура была обращена к Василию спиной, и первым его побуждением было крикнуть, чтобы прохожий поостерегся. Но что-то удержало его. Это не был случайный прохожий, нет, ни в коем случае! Этот человек стоял здесь уже давно, и, может быть, не раз…
Нелепая мысль мелькнула у Василия: говорят, что преступника всегда тянет на место преступления, совершенного им… Глупость! Может быть, когда-то и существовали такие совестливые преступники.
Все же, настороженный, Василий подошел ближе: человек стоял так же, крепко опершись, чуть не навалившись на опасно вспученную стену. «Пьяный какой-нибудь», — подумал Василий, но рука с папиросой, небрежно откинутая, не дрожала, во всей фигуре была какая-то нарочитость, как будто человек не случайно оказался тут.
Василий подошел вплотную, но и тогда незнакомец не очнулся от задумчивости.
— Эй, приятель, так тебя и задавить может, — негромко сказал Василий над самым его ухом.
Человек неторопливо обернулся, и Василий застыл на месте от удивления, узнав рыжего Женьку.
Несколько секунд они молча смотрели друг на друга. Василий — с какими-то смутными подозрениями, Женька — с несвойственным ему выражением, словно бы сожалея о чем-то и как бы говоря: «Да, это я, вот так, и ничего тут не поделаешь!»
— Почему ты здесь? — спросил Василий, наконец обретя дар речи.
— Долго рассказывать. А если по-честному, я тут и околачиваюсь, чтоб найти кого-нибудь… кому можно рассказать.
Это прозвучало странно, нелепо, Василий понял только одно: в судьбе Женьки что-то резко изменилось. В нем не было прежней самоуверенности, былого нахальства. Наоборот, в нем высматривалась усталость, разочарование, даже безнадежность. И если в чем-то проявлялся прежний Женька, так это в решительности, с которой он предложил:
— Вот что, Вася! Хочешь потратить на меня час времени — не раскаешься. Не хочешь — не обижусь.
— Пойдем! — ответил Василий, не раздумывая. Мысль о том, что Женька не случайно здесь, что есть связь между ним и этим скорбным местом, что эта связь может выявиться сейчас же, вынуждала его торопиться.
— А куда поведешь? В ЧК? — спросил Женька. Смысл его слов был вроде вызывающий, но голос звучал устало, насмешкой над самим собой.
— В пивную зайдем. Тут недалеко, на Дмитровке.
— Лады! — Женька с готовностью шагнул на тротуар.
Они молча пересекли Тверскую с аптекой на углу, мимо старенькой церкви на спуске, вздымающей невысокие древние купола над белой оградой, прошагали по Большой Дмитровке и повернули налево.
Здесь, против массивного мрачного здания ломбарда, сохранилась маленькая пивная, в которой сейчас они оказались единственными посетителями.
Василий заказал пива.
— А если беленькой из-под прилавка? — спросил Женька, но, когда Василий отрицательно покачал головой, сказал: — Ну, тогда и я — нет.
В этом определенно проявлялось что-то новое, делавшее его не то чтобы совсем другим человеком, но как бы вышибленным из своей обычной роли горлопана, циника, бахвала. И, выйдя из роли, он оказался неприкрытым, голым и ранимым, как улитка, высунувшаяся из панциря. И это располагало Василия к нему. С болью он вспомнил, что так и не выполнил просьбу Владимира Михайловича разыскать Женьку «Беспощадного».