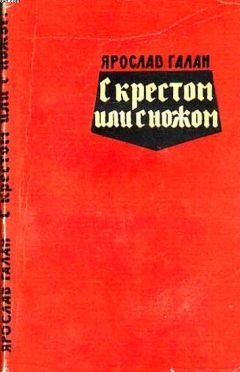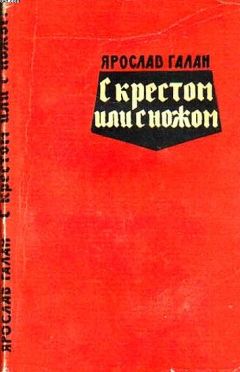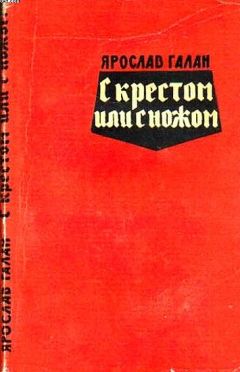— Чтобы обмануть большевиков, мы отправляли туда не только живых, но даже мертвых,— сказал Дитц, передавая поднос с хлебом и солью ординарцу.— Сколько лет, сколько зим! Так, кажется, говорит ваша пословица? Рад вас видеть в полном здравии, мать Вера...
— Вы рады? — умилилась игуменья.—А вот мы-то как рады! Боже!
В глазах ее заблестели слезы.
Изумленными глазами, в которых одновременно отражалось любопытство и удивление, наблюдала эту встречу Иванна. Должно быть, давно уже были знакомы друг с другом строгая настоятельница монастыря и элегантный, с проседью на висках немецкий штурмбанфюрер СС Альфред Дитц с эмблемой смерти на тугой и высокой фуражке.
— Насколько мне память не изменяет, мать игуменья, правое крыло вашего монастыря пустует,— сказал Дитц, оглядываясь.— Я хотел бы разместить здесь свою зондеркоманду. В других зданиях еще можно натолкнуться на большевистские сюрпризы, а за вашей стеной мы будем чувствовать себя как в крепости. Вы не возражаете?
— Боже! Какие могут быть разговоры! Конечно, располагайтесь. Мои послушницы немедленно вымоют там полы! — согласилась игуменья.— Пресвятая дева Мария услышала наши молитвы...
Беседа была прервана появлением в распахнутых воротах монастыря группы полицаев во главе с Каблаком. Увидев немцев, окруживших игуменью, Каблак сперва хотел было попятиться, но, узнав в гитлеровском офицере своего недавнего шефа, отрапортовал:
— Пане штурмбанфюрер! Извините. Никто из русских не выбегал из монастыря?
Он хотел было, подчеркивая их старые отношения, назвать бывшего советника комиссии его фамилией, но побоялся допустить оплошность: как бы ему снова не влетело за нарушение правил конспирации.
Дитц тоже узнал Каблака, но, поморщившись, перевел свой вопросительный взгляд на игуменью.
Оглянувшись, игуменья сказала вполголоса:
— Там, в саду, посторонний какой-то...
Иванна услышала эти слова, и ей стало страшно. Но еще больший страх испытала она, когда через несколько минут увидела, как полицаи волокут под руки раненого человека в полосатой пижаме. С лица его, покрытого ссадинами, лилась кровь. Должно быть, полицаи избили его там, в саду. Девушка без труда узнала своего недавнего квартиранта, капитана Журженко. «Что я натворила! Как жестоко отомстила человеку, который хотя и причинил мне зло, но сейчас ранен и совершенно беззащитен!» Меж тем Каблак, победно салютуя, доложил Дитцу:
— Пане штурмбанфюрер! Поймали переодетого большевистского капитана. Дозвольте вести дальше? Дитц милостиво кивнул головой.
— Иди, зараза большевистская! — крикнул Каблак и, желая выслужиться перед начальством, изо всей силы ударил Журженко прикладом автомата в спину.
Иванна закрыла руками глаза, полные слез. «Боже, боже, что я сделала! — шептала она про себя.—Выдала беззащитного человека, а теперь они его будут мордовать как хотят!»
— Пусть пани игуменья спит теперь спокойно в своем монастыре,— сказал, улыбаясь, Дитц.— Мы быстровыловим всех этих переодетых красных. Герр Энгель поможет мне в этом! — И он покровительственно похлопал по плечу своего долговязого помощника, одетого в мундир полевой тайной службы безопасности, или, попросту, фельд-гестапо.
В сутане, облегающей ее стройную фигуру, Иванна в состоянии полного изнеможения добралась на трамвайчике до привокзальной площади.
Главный вокзал Львова заполняли пассажиры, выплеснутые на перроны недавними бомбардировками и уличными боями. Здесь были семьи советских военнослужащих и советских работников, не успевшие эвакуироваться матери с детьми. Было здесь немало людей с границы.
С предгорий Карпат, с берегов Западного Буга и Соло-кии, из военных городков Равы-Русской и Перемышля собрались они на запыленном перроне, под огромным виадуком вокзала, лишь кое-где отделяющего их от задымленного неба последними уцелевшими стеклами.
Первые бои сожгли их жилища и выбросили с насиженных мест. Ожидая, пока кончится проверка документов и будет снято оцепление, они пугливо озирались на проходящих по перрону немецких солдат и их помощников полицаев в черных «мазепинках» с трезубами. Вот оно, подлинное народное горе!
Около того самого кипятильника, где недавно ранили Журженко, стоял Эмиль Леже. Его круглое банджо, подобно карабину, болталось за спиной. Эмиль был в лыжной тирольской шапочке, в сапогах с высокими задниками. Зора — так звали его жену-чешку,— наклонившись над годовалым младенцем, хлопотала у голубой колясочки, пыталась всунуть в ротик ребенка соску, напоить его молоком, но тот отчаянно мотал головой. Не помогала и «коза», которую делал ему пальцами Эмиль.
На вокзале скопились и местные жители, застигнутые войной во Львове и ждущие первых поездов в сторону запада — на Перемышль, на Стрый, Станислав и Дрогобич, откуда катились волны немецкого вторжения. Их пугала неизвестность, принесенная захватчиками, волновала судьба близких, переживших первые сражения на границе...
К таким пассажирам принадлежал и знакомый нам почтальон из Тулиголов Хома. Когда мимо него проходили немецкие солдаты, он боязливо прижимал к телу картонную коробку.
Хома хотел было дать дорогу встречной монахине, но, узнав в ней дочь своего священника, закричал изумленно:
— Панунцьо! Цилую руци!
— Вы давно из дому, дядько Хома? — торопливо спросила Иванна.
— Да с субботы... Приехал черевики покупать.— Он показал на коробку, зажатую под мышкой.— А тут бах-бах, и бомбы посыпались..
— Что у нас дома, дядько Хома?
— До субботы было все в порядке. Правда, сперва отец Теодозий был дуже зденервованый, що вы не повертаєтесь, но потом приехали богослов Роман, сказали, что с вами ничего не сталось и вы задерживаетесь во Львове. Ну, тогда отец Теодозий успокоились... Только...
— Ну что? Да говорите же, ради бога! — тревожно вскрикнула Иванна, уловив, что почтальон замялся.
— Только пан отец были очень огорчены, что пануся ничего не сказала им, уезжая, про телеграмму.
—Про яку телеграмму?
— Ну, яка пришла до пануси телеграмма з университету. Я отдал ее пану Роману.
— Пану Роману? — протянула Иванна.— Ничего не знаю!
— А я тоже ничего не знаю. Только телеграфистка наша, Дзюнка, сказала мне и отцу Теодозию, что сам ректор университета до пануси депешу прислали.
Недоуменным взглядом посмотрела на почтальона Иванна, но громкий стук заставил ее обернуться.
По перрону зацокали подкованные сапоги гитлеровцев.
Отряд полевой жандармерии вел задержанных во время облавы на вокзале подозрительных людей. Среди них были раненые.
Угрюмо посмотрел из-под козырька тирольки на проходящих Эмиль Леже. Видимо, его мрачный взгляд, лишенный какой бы то ни было симпатии к победителям, перехватил фельдфебель с блестящей, напоминающей полумесяц, металлической бляхой на груди. Он круто свернул к Леже.
— Юде? — резко спросил гитлеровец.
— Наин! — спокойно ответил Леже.
— Врешь! Юде! — крикнул жандарм.
— Можете думать что хотите. Я говорю вам правду! — на чистейшем немецком языке ответил Леже.
— Давай сюда! Становись в шеренгу! — скомандовал жандарм и жестом показал на колонну задержанных.
Зора подбежала к жандарму и, хватая его за руку, с мольбой в голосе попросила:
- Пане ляйтер, то мой муж. Он француз, а не еврей...
— Генуг[11]! — крикнул гитлеровец и оттолкнул Зору прикладом автомата.
Она отшатнулась, нечаянно толкнула ногой коляску с ребенком, и та покатилась, пересекая перрон, к блестящим рельсам. Улыбался в ней, глядя в небо, розовощекий ребенок.
Слились в один два женских крика: Зоры и Иванны. Голубая коляска с ребенком съехала с перрона и стала поперек отполированных колесами путей. А на нее, на всех парах, давая гудки, мчался первый поезд с границы.
Иванна метнулась к коляске, едва успела оттащить ее, как мимо замелькали обвешанные народом вагоны тормозящего пригородного поезда.
Два гитлеровца схватили Эмиля Леже и стали заламывать назад его руки.
Зора откатила коляску к стене и, пытаясь прорвать кольцо оцепления, закричала:
— Он музыкант! Вы не имеете права. У него французский паспорт!