После долгих поисков Бабушкин все же нашел удобное место для типографии: в деревне Шляховке, недалеко от Брянского завода.
Место очень подходящее: и не в самом городе, и в то же время — рядом с городом.
Прасковья Никитична с мужем долго бродила по деревне, придирчиво подбирая домик для покупки. Иван Васильевич входил в избу и заводил неторопливую «мужскую» беседу с хозяином: об урожае, о ценах на рынке, — а Прасковья Никитична сразу просила баб показать ей сад, огород, баньку.
И всегда особенно интересовалась подполом. Глубокий ли, сухой, не промерзает ли зимой, не осыпается ли земля?
«Хозяйственная молодуха, — думали владельцы дома. — Верно, собирается в подполе картошку, да капусту, да всякие соленья на зиму припасти».
Они, конечно, и не догадывались, что подпол интересовал Прасковью Никитичну гораздо больше самой избы. И вовсе не потому, что она хотела держать там овощи, маринады, варенья да соленья. Именно в подполе намеревался Бабушкин устроить типографию.
Наконец домик купили.
В субботу подписали «купчую». Прасковья Никитична нарочно пригласила присутствовать урядника — молодцеватого, с длинными усами и громким, хриплым голосом. Пусть видит — в домике все «чисто», люди въезжают степенные, богобоязненные.
Передав хозяину деньги, выделенные городским комитетом партии, Бабушкин троекратно расцеловался с ним.
— Мы здесь ладно жили, худа не знали и тебе того желаю, — сказал бывший хозяин.
Еще раз пересчитав кредитки, он завернул их в красную тряпицу и сунул глубоко за голенище.
Бабы заголосили, словно в доме был покойник. Прасковья Никитична тоже всхлипывала, вытирая глаза концом шали. Потом выскочила в сени, принесла полуштоф. Разлила водку по стаканам, поднесла бывшему хозяину дома, и мужу, и уряднику…
В воскресенье утром к опустевшему домику подъехала телега с вещами и мебелью. Прасковья Никитична сидела на возу, придерживая рукой зеркало. Иван Васильевич шагал рядом. Из соседних домов прибежали ребятишки, потом подошли и взрослые.
— Давай-кось подмогу, соседушка, — сказал Ивану Васильевичу молодой мужик в щеголеватых сапогах.
Вдвоем они взяли сундук и потащили его в дом.
— Одначе чижолый, — крякнул мужик, поставив сундук в горницу.
— Да, весит, — согласился Бабушкин. — Жинка туда и муку, и крупу — все запасы загрузила.
Они вышли к возу и взяли по корзине.
— А тута, пожалуй, посуда всякая, железяки, — сказал мужик. — Прямо руку оттянуло.
— Посуда, — подтвердил Иван Васильевич. — И еще головка от швейной машинки.
Не объяснять же, что в сундуках и корзинах лежит разобранный печатный станок?!
На очередном заседании городского комитета партии Бабушкин доложил: типография готова.
— Но приходить туда, — сказал он, — могут только четверо «наборщиков» и «печатников». Всем остальным — обижайтесь не обижайтесь — вход строго запрещен.
Для пущей верности Иван Васильевич даже не назвал адреса типографии. Подпольщики не обиделись, они знали — только так можно уберечь типографию от глаз шпиков и жандармов.
Приближалось Первое мая.
— Давайте для начала выпустим первомайский листок, — предложил Бабушкин.
Он вынул из кармана текст прокламации и прочитал. Городской комитет партии одобрил его.
Той же ночью в глубоком подполье маленького деревенского домика началась упорная, тайная работа.
Подпол был темный, тесный, душный, и главное — низкий. Выпрямишься — стукнешься головой о потолок. Приходилось работать согнувшись, сразу заныла шея и спина. Воздуха и так не хватало, а от трех керосиновых ламп, поставленных в разных углах подпола, от острого запаха краски, клея и плесени нечем было дышать. По сырым стенам бесшумно скатывались мутные струйки воды.
Бабушкин сам набрал первый листок. Делал он это гораздо хуже старика наборщика, которого видел в типографии. Свинцовые буквы плохо слушались его, выскакивали из узловатых пальцев. Старик наборщик на ощупь чувствовал, какая буква у него в руке, а Бабушкину приходилось разглядывать каждую литеру, тем более что шрифт старый, да и освещен подпол тускло. Когда набор был почти готов, Иван Васильевич неосторожным движением рассыпал его на пол. Пришлось начать все сызнова.
Но постепенно работа наладилась.
Матюха самодельным валиком накатывал краску на шрифт. Старый друг Бабушкина еще по Питеру, рабочий Петр Морозов, пожилой, приземистый, накладывал бумагу. Морозов недавно приехал из Сольвычегодска, куда его выслала столичная полиция, и теперь поселился в Екатеринославе.
Бабушкин, навалясь грудью на легкий валик, обтянутый холщовым полотенцем, прокатывал его по раме. Морозов снимал готовые листки и развешивал их для просушки на нитки, натянутые из угла в угол по всему подполу. Потом он убирал высохшие листки, считал их и складывал в стопки.
— Вот теперь мы — настоящие подпольщики, — шутил Бабушкин, смахивая пот со лба. — Под пол зарылись, как кроты.
По тихой деревенской улице возле типографии всю ночь ходила Прасковья Никитична в пальто и шерстяном платке. Она то присаживалась на завалинке дома, то стояла, прислонясь к забору, то доходила до ближайшего угла, внимательно оглядывала все вокруг и снова поворачивала к маленькому домику.
Ей казалось: она видит, как за бревенчатыми стенами домика одна за другой печатаются листовки. Завтра они разлетятся по городу, их уже ждут тысячи рабочих.
Прасковье Никитичне хотелось запеть: радость переполняла ее. Но она не пела. Жена Бабушкина несла караул, и если бы она запела, в типографии немедленно прекратилась бы работа: тревога!
Бабушкин и его друзья, скинув пиджаки, закатав рукава рубах, трудились всю ночь в тесном, сыром подполе, где с потолка то и дело срывались крупные капли воды. Они очень устали, но все же к рассвету три тысячи свеженьких, еще пахнущих краской первомайских листков лежали стопками на табуретках и во всех углах подпола.
Прокламации звали рабочих к сплочению, усилению борьбы с капиталистами. Листки получились красивые. По краям в виде рамки был крупно набран лозунг:
«8 часов работы! 8 часов отдыха! 8 часов сна!»
Внизу чернела внушительная подпись:
«Екатеринославский комитет РСДРП».
…Между тем ротмистр Кременецкий тоже не терял времени даром. Частые стачки и волнения на заводах лишили его покоя. Ротмистр поставил на ноги всю жандармерию, полицию, но и этого ему показалось мало. В Петербург полетела тревожная телеграмма.
Вскоре на екатеринославском вокзале высадилась большая группа людей: кто в шляпе, кто в фуражке, некоторые в пальто, другие в плащах, в чиновничьих шинелях, а один верзила в косоворотке и брюках «навыпуск» напоминал мастерового. Но было что-то общее в этих разных людях: все они приехали без багажа, с маленькими баульчиками и чемоданчиками и все старались держаться незаметно, не привлекая внимания пассажиров.
«Наверно, завербованные на прокладку трамвая!» — подумала торговка пирогами на вокзальной площади.
Но она ошиблась. Это прибыл в Екатеринослав со специальным заданием — «искоренить крамолу» — особый «летучий отряд филеров». Петербургская охранка не поскупилась: она послала на помощь своему собрату отборных столичных шпиков.
Ранней весной, холодными ночами, по улицам обычно тихого, сонного Екатеринослава теперь «прогуливалось» столько жандармов, полицейских и шпиков, что трактирщики даже не закрывали своих заведений. Надо же чем-нибудь согреться господам полицейским!
…На рассвете, закончив печатание листовок, подпольщики поодиночке покинули типографию.
Утро было тихое, но холодное. На деревьях — ни листочек не шелохнется. После лихорадочной ночной работы в душном, пропахшем керосином и краской подполе такое свежее утро бодрило и радовало. Каждый из подпольщиков под рубашкой, под пальто был обложен пачками прокламаций: теперь, если жандармы и обнаружат типографию, изъять листки им все равно не удастся!
Бабушкин договорился с товарищами: вечером все явятся в трактир «Днепр», чтобы ночью одновременно во всем городе расклеить боевые листки.
И вот наступил вечер. Все собрались в «Днепре» — маленьком трактире, втиснутом в сводчатый полуподвал на окраине города. Заняли два столика, заказали пиво. Матюха нарочно горланил пьяным голосом частушки, заглушая граммофон. Потом, без всякого перерыва, затянул «Среди долины ровныя…»
Только Петр Морозов запаздывал. Это было не похоже на старого, испытанного революционера, привыкшего к точности. Подпольщики тревожились. Прошло полчаса, час…
Морозов не приходил.
«Арестован, — решил Бабушкин и с горечью подумал: — Вот не везет Петру: только-только из ссылки и опять — в тюрьму!»
Но он был уверен: Морозов, конечно, не выдаст жандармам ни типографии, ни товарищей. И Бабушкин распорядился — начать расклейку прокламаций. Время не ждало. Однако Иван Васильевич предупредил друзей: теперь, когда Морозов, вероятно, схвачен полицией, нужна особая осмотрительность. Филеры, очевидно, настороже. Малейшая ошибка поведет к провалу.

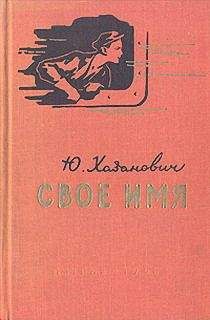

![Сергей Лексутов - Ефрейтор Икс [СИ]](https://cdn.my-library.info/books/96438/96438.jpg)

