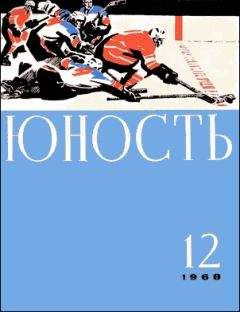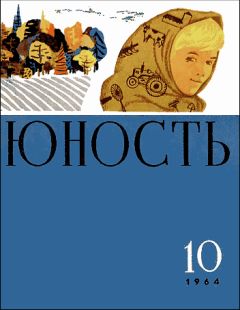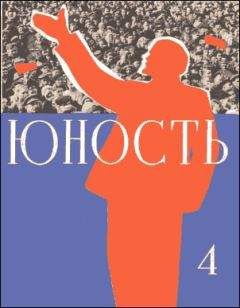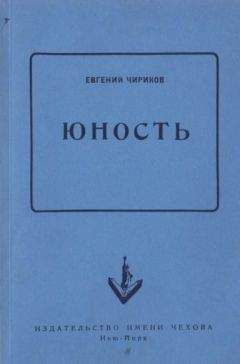с карими, немного сумрачными глазами. Одет он был в полосатую рубашку и широченные штаны-клеш, такие уже мало кто носил. Он курил. Он курил как-то очень знакомо, взахлеб покашливая, — так мог курить только один человек. Я остолбенел.
— Ну, не мне вас знакомить, — сказала Инна.
Я механически, как заведенная кукла, подошел к нему, протянул руку, сказал:
— Здравствуй, Гриша.
Он крепко ее пожал, без всякого удивления, внимательно меня оглядел (будто он ждал меня) и сказал:
— По-моему, изменился мало. Только стал высокий, модный. И в длинных брюках. А длинные брюки тебе идут.
Это была шутка, и полагалось смеяться. Инна и ее мама засмеялись. Но я не засмеялся.
— Ну, уж Гришка скажет! — с восхищением проговорила Инна.
Это была не только шутка. Это было желание снова приблизить меня к тому неумелому слабому мальчику в коротких штанах, который уже давно не существовал.
— Нет, ты ошибаешься, Гриша. По-моему, я изменился. Впрочем, со стороны виднее.
В моих словах, видно, открыто глянула обида, потому что Инна с удивлением посмотрела на меня и поспешно сказала с неожиданной мягкостью:
— Ну, расскажи, как ты, где ты? Нам же с Гришкой интересно.
«Нам с Гришкой, — подумал я. — Может, они поженились? Нет. Тогда она не была бы такой парадной. Просто он к ней приехал на воскресенье».
— Рассказать, как я… Да много рассказывать.
— А ты все-таки расскажи. Мы ведь не торопимся, — вступился Гришка.
— Пожалуйста, — сказал я.
И я начал рассказывать. Сначала я говорил суховато, сдержанно. Потом увлекся и использовал в своем рассказе весь собранный материал. Это было нечто вроде отчета по практике. А ведь всякий отчет по практике требует некоторой приукраски. И я решил рассказать и про целину. Знай наших! А то сидите здесь, жизни не видите, а еще иронизируете. И я начал говорить о том, какие в Кулунде дороги, как трудно было налаживать жилища, как люди выходят во двор, держась за канат, чтобы не сбило ветром.
— А ты там был? — спросил Гришка.
Я поколебался. Плевать в конце концов, подумал я. Журналист имеет право на вымысел. Надо им показать, что я по-настоящему изучил жизнь.
— Был, — сказал я.
— Сколько? — спросил он, взглянув на меня.
— Некоторое время, — сказал я.
— Ну, сколько же?
— Ну, три недели.
Он ухмыльнулся и промолчал.
— Понимаешь, — сказала Инна, — Гриша вернулся с целины неделю назад. Он провел там все лето. Он работал на комбайне…
Я почувствовал, что снова бросаюсь в грязный пруд и плаваю ногами по дну. Мне стало стыдно, как много лет назад. Только, пожалуй, это был другой, более мучительный, невидимый постороннему глазу стыд. Я замолчал. Я понял, что зря пришел сюда. Мне захотелось уйти.
А Инна оживилась, она улыбалась мне, она говорила, что я действительно очень вырос, что я выше Гришки (подумаешь, заслуга), что я молодец, что зашел к ней. Гришка по-прежнему молчал. Потом мать Инны позвала его. Она попросила его спуститься в погреб за маслом.
«Да, он не последний человек в этом доме», — подумал я. Потом я безучастно спросил Инну, где она учится.
— Я учусь в вечернем механическом и работаю на заводе. На дневной не поступила. Срезалась.
— Молодец, — вяло сказал я.
— Молодец, что срезалась?
— Нет, что работаешь. Это очень нужно сейчас.
— Смотри, ты совсем как передовица в нашей многотиражке.
— А что, я и буду писать передовицы.
— Ну пиши, только не очень длинные.
— Ладно, — уныло согласился я.
Почему-то я вспомнил вдруг о Маньке, о маленькой коричневой обезьянке под абажуром. Ее не было.
— Где Манька? — спросил я.
— Маньки нет, — ответила Инна.
— Где ж она?
— Она потерялась. Ее потерял Гришка.
— Ах, Гришка, — сказал я. — А где твои косы? Тоже потерялись? Тоже Гришка?
— Их нет… Подстриглась… Но только назло Гришке. Он был против.
«Да, ничего нет, — подумал я. — Ни кос, ни Маньки. И Джеммы тоже нет. Хотя, может быть, она и есть. Только она не моя Джемма. Она Гришкина Джемма».
Я встал и протянул ей руку.
— Надо идти, — сказал я. — Поздно. Я не поспею к поезду.
— А ты не боишься… один?
— Нет. У меня есть опыт.
— Это хорошо.
Я вышел, кивнул Гришке, попрощался с Инниной матерью. Инна проводила меня до калитки.
— Ну, мы ведь увидимся в Москве? — сказала она. — Мы обязательно увидимся.
— Да, конечно, — ответил я.
— Мы увидимся. Обязательно. Мы встретимся где-нибудь у Арбата.
— До свиданья, Инна.
«Хорошо, что мы никогда не увидимся», — подумал я. А через десять минут я уже был в вагоне электрички. Электричка мягко тронулась.
«Хватит, — сказал я себе. — Завтра же начну новую жизнь. Хватит лгать, хватит трепаться. Я тоже буду настоящим, черт возьми, назло им всем. Я больше никогда не буду плавать ногами по дну… Никогда!»
Мне стало несколько легче от принятого решения.
А электричка плавно и быстро увозила меня от маленькой платформы, заплеванной семечками, от дачного полустанка, от ее дома, от мелькнувшей и погасшей в темноте станции первой любви…
Когда была весна, когда наступал Первомай и мы собирались во дворе нашей школы и распределяли знамена и транспаранты, а флаги, развернув гудящие полотнища, рвались из наших рук в небо и вокруг трепетали красные и синие шары, когда могуче гремели оркестры, — в эти минуты мне хотелось быть рядом с Валькой Зыковым.
Когда приходило 7 Ноября и мы шли по Чистым прудам, а тихий бульвар вдруг становился островом, который обтекало теплое человеческое море, и на это живое волнующееся море, на его быстрые маленькие волны — на наши головы падал первый, еще не зимний какой-то снег, а мы пели «Наш паровоз, вперед лети», и весь медленный путь сквозь улицы и переулки к Красной площади казался бурным и радостным, как бег песенного паровоза, — в эти часы мне хотелось идти рядом с Валькой Зыковым.
Ох, как мы пели! О, как нам пелось в те минуты. «Это есть наш последний…» Нет, мы знали, что это еще не последний, что это даже не первый наш бой, но слова этой единственной, удивительной песни словно магнетизировали нас, наступало какое-то слепящее забытье, когда каждый, казалось, мог бы броситься на амбразуру дзота, если б это потребовалось стране, когда даже Лешка Слепнев, прогульщик и шпана, вырастал и становился если не человеком, то кандидатом в человека… О, как немыслимо сладостны и грозны были эти минуты, потому что в