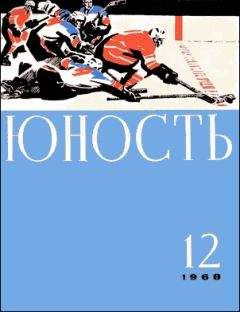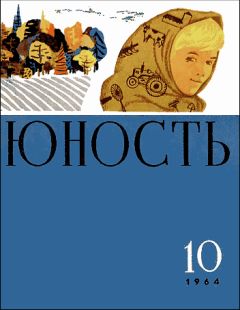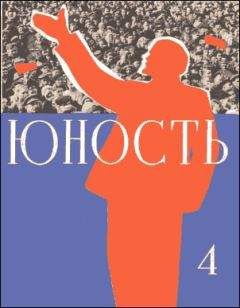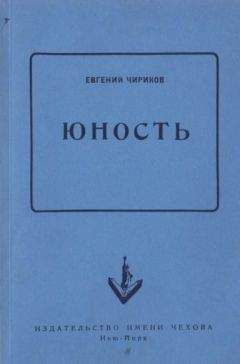наших неокрепших сердцах далеким и тревожным гулом звучала мелодия революции. И я был счастлив, что рядом со мной Валька Зыков, человек шестнадцати лет, строгий, твердый, серьезный, не знающий, что такое человеческие слабости, не ведающий компромиссов…
И сегодня я хочу рассказать о нем, о моем товарище Вальке Зыкове. Я сидел с ним за одной партой, я любил его, я поклонялся ему, и только в отдельные минуты я его немножечко ненавидел. Когда ему исполнилось тринадцать лет, в этот исторический день он показал мне написанное им заявление, адресованное неизвестно кому, о том, что с этого дня он берет на себя обязательство никогда не врать. Я отнесся к этому заявлению скептически и недоверчиво. «Во-первых, это невозможно, — сказал я ему. — Во-вторых, это неинтересно». Он посмотрел на меня светлыми, спокойными близорукими глазами первого отличника и не унизился до ответа. В классе о Вальке говорили с уважением: «Идейный». У нас было много «идейных», но Валька был особенно «идейный». Впрочем, иногда он позволял себе безыдейные поступки: играл в баскет, в лапту, в футбол, а иногда даже в «расшиша». Однажды Валька Зыков прогулял. Обычно нас спрашивали, почему мы отсутствовали. Каждый врал как мог. Я, например, обычно кого-нибудь встречал или провожал: то в командировку уезжал мой отец, то уезжала куда-то мать, то улетала срочным рейсом моя неугомонная бабушка.
— У тебя не семья, а подвижной состав, — вздыхала классная руководительница и отмечала в журнале: «Отсутствовал по уважительной причине».
У других ребят: а) кто-нибудь болел, б) был потерян ключ, и они не могли уйти из дому. Но вот классная руководительница обратилась к Вальке:
— Что случилось с тобой, Зыков?
Мрачно, гробово стукнула доска парты, волны бешеного шепота захлестали по классу. То Вальке подсказывали надежные и правдоподобные причины… Валькины глаза были печальны и ясны.
— Что случилось, с тобой, Зыков? Может быть, ты переутомился, плохо себя чувствовал? — подсказывая ему выход, тихо и сочувственно говорила учительница.
— Нет, я не был болен, — твердо ответствовал Зыков. — Я был полностью и абсолютно здоров.
Он задумался на секунду и дрогнувшим, но громким голосом произнес:
— Я прогуливал.
Стон недоумения и отчаяния пронесся по классу: а-ах! И классная руководительница проговорила проникновенно и устало:
— Ты правдивый мальчик, Зыков. — И мелким четким почерком она поставила в журнале: «Отсутствовал по неуважительной причине».
Когда после уроков мы возвращались домой, Зыков шел впереди нас одинокий и скорбный, как Джордано Бруно. А мы шли гурьбой и обсуждали его поступок, и кое-кто из самых хитроумных и дальновидных наших учеников, хитро и весело подмигивая, говорил:
— Чудаки… Это особый такой прием. Валька знает, что он делает… Он своего добьется.
— Да брось ты, — говорил я. — Просто Валька такой… Просто он очень идейный.
Я верил Вальке. Валька был моим рыцарем правды, всегдашним укором моей совести… Однажды я «сыпался» на экзамене по истории, утопал в пучине дат и событий и, утопая, я кинул Вальке белый флаг, SOS, я взмолился о помощи. Я знал, что он изучил историю назубок. Он читал Маркса, бредил Спартаком и французской революцией, он цитировал Марата и показывал нам картинку, где его убивает в ванной какая-то ужасная женщина. Он был влюблен в Дзержинского и хорошо знал биографию Артема, он мог спокойно перечислить всех генералов 1812 года и всех дважды Героев Отечественной войны.
— Подскажи, Валька, — умирая, прошептал я.
И тут я вспомнил: это же Валька Зыков, не знающий компромиссов… Этот разве подскажет! Я безнадежно и устало посмотрел на него. Лицо его мучительно искривилось. Он страдал. Он был слишком правдив, чтобы подсказывать, и слишком добр, чтобы дать мне утонуть. И он мучился, Валька Зыков, зажатый в тисках своей принципиальностью и своей добротой.
— Ну-с, в каком же году произошло это знаменательное событие? — устало сказала преподавательница истории.
— Действительно, в каком же году оно произошло?! — риторически произнес я и развел руками. И тут я увидел, как разверзлись побледневшие уста моего друга, как дрогнули его непримиримые губы. Прерывающимся шепотом он произнес дату. Я был спасен.
После экзамена я кинулся к нему. Я хотел его обнять, я хотел сказать ему самые прекрасные слова. Он отстранил меня твердой рукой, не принял моей благодарности. Он ушел, гордо подняв неширокие плечи, ушел потому, что не смог соблюсти своих принципов и подавить свою доброту. И я понял, как я был жесток, поставив его перед этим выбором…
А потом мы выросли. Валька Зыков кончил школу, поступил в институт. Мы стали с ним видеться очень редко. Иногда, когда я поздно возвращался домой, я видел около своего подъезда две темные фигурки, стоящие на ступеньках, в одной я угадывал Вальку, в другой девушку, живущую в моем доме, на которую мы с Валькой всегда смотрели как на ребенка. Она была моложе нас на три класса и, как мне казалось, на целую эпоху… И вот нате вам — Валька Зыков стоит у нашего подъезда, у ее подъезда, стоит, как часовой, которому не уйти до рассвета со своего поста.
— Здравствуй, Валька Зыков, — говорю я. «Здравствуй, побежденный рыцарь без страха и упрека», — добавляю я мысленно.
Он молча кивает мне и поворачивается к ней. Я прохожу в подъезд, я закрываю дверь. Мне идти, им стоять — у каждого своя судьба…
Но вот была последняя институтская наша весна, и я тоже загулял, закружился в весенних моих улицах и вновь встретил Зыкова, отстоявшего свой трудный пост у подъезда. И мне захотелось вдруг вспомнить наше детство, нашу дружбу, поговорить с ним, как бывало.
— «К нам пришла любовь, и стало светлей…» — пропел я и засмеялся. — Так, что ли?.. Ну, здравствуй, Валька Зыков… Проводил свою?
— Да, — сказал Зыков, и лицо его сделалось твердым, как лицо Гоголя на новом памятнике. — Больше вопросов нет?
Валька Зыков не любил таких разговоров. Он их просто терпеть не мог. Еще несколько лет назад, когда ему было, наверное, четырнадцать, он сказал: «Мы, мужчины, не должны болтать об этом».
— Мы, мужчины, не должны… — поддразнил я его.
— Не должны, — улыбаясь, сказал он. Глаза у него потеплели. — А я, понимаешь, завтра уезжаю.
— Надолго?
— Навсегда, наверное, — сказал он.
Я не стал приставать к нему с расспросами. Он ведь не любил распространяться о своих делах. Зачем же в последний вечер я буду делать ему неприятное?
— Ну до свиданья, Валька, — сказал я. — Я тебе желаю только одного — счастья. Этого я тебе желал всегда.
— Я знаю, — тихо сказал он и задумался.
Мне захотелось его обнять, наговорить ему всяких