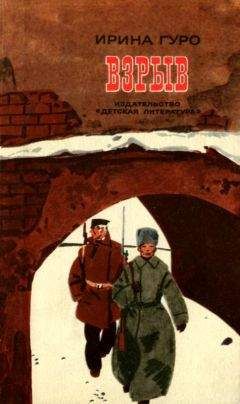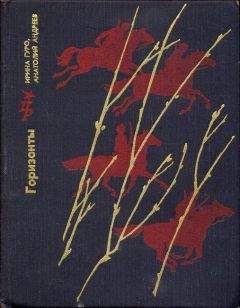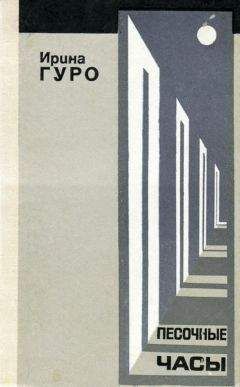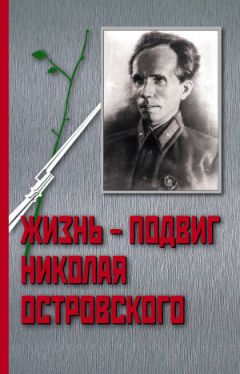Нольде с досадой отряхнул пальто. Пользоваться трамваем, втискиваться в толпу, облепившую его, — это претило. Да и идти было недалеко. Он миновал тихую теперь улицу со скучными серыми домами с солидными вывесками: «Торгово-Промышленный банк», «Санкт-Петербургское акционерное товарищество на вере»… Какая уж тут вера!
На углу под навесом крыльца стоял небритый тип с лотком и предлагал:
— Папиросы собственной набивки! Табак «Кепстон» для любителей!
Неудачно. Стоит на малолюдном перекрестке, каждому в глаза бросается. Нольде спросил спички, закурил, выжидающе глядя на типа.
— Пожалуйте, ждут! — просипел тот.
Нольде толкнул незапертую дверь и поднялся по широкой лестнице, уставленной цветочными кадками. Никто не вышел к нему, словно вымерли. Налет запустения лежал на всем: ковровые дорожки давно не выбивались, на витраже окна зияли трещины.
Никем не встреченный, Нольде прошел через анфиладу комнат к кабинету хозяина и постучал согнутым пальцем в дубовую дверь.
— Антре! — послышался басовитый голос.
Георгий Николаевич сидел за массивным письменным столом столь незыблемо и в такой наилучшей своей форме, словно ничего не произошло. Словно не было ни революции, ни автомобилей с «братишками» на Невском, ни грозных приказов, расклеенных на стенах: «Зарегистрироваться… в 24 часа… под страхом…» — ничего. На полном холеном лице так и написано: «Вы там что хотите расклеивайте, а я вот он, как был, так и есть. А то, что портрет государя-батюшки со стенки сняли и в чулан вынесли, — так это явление временное. И что свежая как бы заплата на обоях стыдливо прикрыта другим портретом, семейным, — так это тоже до поры до времени».
Нольде был встречен одобрительным возгласом. Одобрение относилось не столько к нему самому, сколько к его виду.
— Ну, батенька, неузнаваемы! Совершенный шпак, неоспоримо штатская личность. И на плечах, ей-богу, скорее крылышки серафима представить, чем погоны!.. — гулко захохотал полковник.
Залесский позвонил. Извечный Никифор с извечным отсутствующим видом получил распоряжение насчет коньяку и закуски, а тем временем Залесский достал из ящика длинный конверт, вынул узкие, мелко исписанные листы тонкой бумаги.
Положение было сложное. Из-за границы требовали активных действий, сулили могучую поддержку, как дважды два четыре, ясно: доказывали шаткость большевистского правления. Между тем в Петрограде шли аресты, «товарищи» рубили сплеча, забирали всех, кто не только действовал, но и мог бы… Закидывали частую сеть, потом разбирались: мелюзгу выбрасывали, крупнорыбицу оставляли. И скажите на милость, всё случайности, всё случайности… Тогда, в вагоне, мальчишка подвернулся, а то женщина какая-то — представьте себе, простая баба! — заметила на базаре, как человек выронил пистолет, — и прямо в ЧК. Так гибнут лучшие люди!
Но основное заключалось не в этом даже. Совсем в другом. Хотя это и держалось в тайне, удалось узнать, что большевистская столица обоснуется в Москве. Что из этого воспоследует? А то, что их деятельность должна перекинуться в Белокаменную… Естественно, туда посылается самая боевая часть, фигурально выражаясь, выдвигается московский аванпост…
Значит, Москва! Москва, где уже ни тетки, ни привычной среды…
Залесский словно угадал мысли собеседника:
— Не думайте, что в Москве нам не на кого опереться. Обстановка, естественно, там несколько иная… Но учтите: верхушка нашего достопочтенного промышленного класса за средствами не постоит. И в другой помощи не откажет. Свалить большевиков! Да это им во сне снится! Что касаемо конкретной диспозиции сил, то вот взгляните…
Нольде вышел несколько успокоенный: все это продлится недолго. Мыслимо ли, чтобы «товарищи» удержали в руках руль такой махины — российской державы! Да и кто позволит хоть на обочине Европы, а все же у ее порога существование — о господи! — «Рабоче-крестьянского государства»! Было это когда-нибудь на земле? Нет! И не будет.
Приободрившись, Вадим Альфредович заметил, что и погода переменилась: в прогалинах туч показалось солнце, оно заиграло в лужах, и они радужно заблестели. Прохожие опускали воротники. «К удаче!» — мельком подумал Нольде.
Нет, ни в какое сравнение с Петроградом Москва но шла, ни в какое! И не в том даже дело, что глаз, привычный к простору широких перспектив, к прямолинейности проспектов, упирался здесь в путаницу горбатых переулков, узких улочек, то свитых в узел маленькой булыжной площаденкой, то теряющихся в зеленом вагоне пригорода. И не в том, что народ был тут не то что питерский: и голосистее, и размашистее, и попестрее… Все это Василию было нипочем. А вот чувствовал он себя здесь как-то неуверенно, неприкаянно. И так привык быть настороже, а тут вовсе… В общем, сброду много, и по всему видать — контры.
В Питере она, контра, по особнякам ютилась, и на улице наметанный глаз ее сразу припечатывал: офицерская выправочка, лицо холеное, а главное — взгляд. Взгляд выдавал, в нем как по писаному читалось: «Скоро вам, большевикам, крышка. „Страждущих братьев“ — всех за решетку! А „златой кумир“ как был кумир, так и будет».
В Москве все было по-другому. Куда нацелиться сторожким глазом? Народу — великое множество. И не идет он в порядке по улицам, на виду, как в Питере, а роится вокруг рынков, церквей, часовен. Вдруг закипает толпа, вдруг рассыпается — водоворот…
И — ах ты! — что же творится у Сухаревой башни! Столпотворение. Тут словно вывернуто все нутро Москвы. Не рынок, а сам по себе город! И чего только не продают! Старый мир пошел в продажу оптом и в розницу!
Иностранцы покупают иконы: «Преподобный Сергий Радонежский из иконостаса патриарха — чтоб я так жил!» — уговаривает гладкий не по времени тип в клетчатых брюках.
Торгуют накладными на вагоны с сахаром, мануфактурой, крупой.
«Специалисты» высокого полета скупают ценности, утаенные от реквизиций.
В Охотном ряду громоздятся неуклюжие ларьки, где продают битую птицу, пух и перо и почему-то — мочалки.
У Иверской часовни гундосят нищие, как при царе Горохе.
Все это странным показалось Василию.
Вечером в казарме Василий поделился своими впечатлениями с Петром Царевым. Петр Царев, тоже из питерских рабочих, нес охрану Кремля, был постарше Василия: в царской армии уже послужил.
Петр сказал коротко:
— Ты еще настоящую Москву не видел. Рабочую.
Пришло время, и другая Москва открылась Василию.
Он полюбил простую и торжественную процедуру развода караулов в Кремле, строгость, подтянутость, несмотря даже на старое, разномастное обмундирование колонны, втягивающейся в ворота Кремля, тишину ночных дежурств, когда за зубчатыми стенами умолкает Москва и четче, острее рисуются купола множества церквей на холодном просторном небе.
В Питере Василий ни разу не видел Ленина. Это случилось уже в Москве, вскоре после переезда сюда правительства. День запомнился Василию необыкновенной яркостью весеннего солнца и какой-то особой прозрачностью воздуха, удивительной для питерца.
Строгая красота кремлевских площадей; свежая зелень елей на рыхлом, уже совсем весеннем снегу; внизу, под стенами Кремля, — перспектива бойкого людного Замоскворечья… Даже мартовские лужи, широко разлившиеся на излучинах аллей, не портили вида; в них отражались бегущие весенние облака и легкий ветер гнал веселую весеннюю рябь.
Владимир Ильич шел по аллее с Бонч-Бруевичем. Похоже было, что они осматривают Кремль, в котором совсем недавно поселилось правительство, и прикидывают, что тут надо еще сделать.
Василию не было слышно, о чем они говорят, а только видно: Бонч-Бруевич что-то объясняет, а Ленин внимательно слушает, слегка склонив голову к плечу. Василию показался вот именно наклон головы, выражающий интерес к собеседнику, характерным для Ильича. Наверное, речь шла об устройстве в Кремле, и на лице Ленина наряду со вниманием было еще выражение какого-то удовлетворения. Так выглядит человек, который устраивает свою жизнь не на час, а на долгие годы и ему интересно все, что касается места, где он будет жить и работать. Отсюда ему будет видна вся страна с ее заботами, с ее счастливой и необыкновенной долей, с ее великой бедностью и великими надеждами.
И был еще один вечер — накануне 1 мая 1918 года. Первый Первомай свободной страны готовились праздновать широко и радостно. Кремль уже был украшен плакатами, свежей зеленью, красными полотнищами с лозунгами. Необычайное это было зрелище: древние стены и слова, начертанные на кумаче: «Да здравствует всемирная Советская Республика!», «Выше знамя свободного труда!»…
Слова были ударные, смелые, исторические.
Вечер под Первое мая выдался тихий, пасмурный: повисли в безветрии красные флаги, двумя рядами вознесенные над Троицким мостом. Кремлевские здания в обрамлении кумача тихо и торжественно погружались в сиреневые сумерки. Свет уже не дневной, но еще не ночной, неверный, рассеянный, окроплял верхушки кремлевских елей и крыши дворцов, а подымавшийся снизу сумрак постепенно заволакивал все, и кумач, вверху еще весело-огненный, здесь стал почти черным.