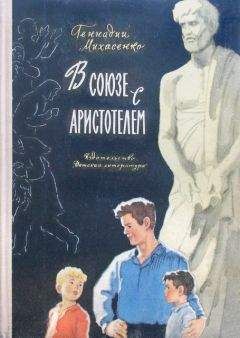— А ты зачем по кедру пустил?
— А куда я пущу?
— Швырнуть надо было.
— Швырнёшь там, когда сам еле держишься… Да и почём я знал, что ты тут как тут.
— А здорово череп-то раскроился?
— Нет, не шибко… Не бойся, мы кровь уняли.
— Миша, есть хочешь? Для тебя оставили…
— Не хочу.
— А шишек? Мы нажарили шишек. Вкусные!
— Не хочу… Пить.
— Щас, — сказал Колька. Он порылся в котомке что-то вынул и нырнул в темноту.
Журчала вода. Наверное, мы на канаве. В тишине крякнула утка.
Витька вздрогнул, а потом сказал с насторожённой улыбкой:
— Утка. Как в деревне… Что думает сейчас Толик?
— Ты не бойся, к костру ни один чёрт не сунется, — сказал я. — Мне бы спину к огню, замёрз.
Сейчас я тебе помогу.
Он помог мне развернуться. К обомлевшей спине мигом припала теплота. Глаза закрывались. Колька принёс воду в огуречном стаканчике. Я выпил, и внутренний холодок разбежался по телу дрожью.
— Чуть посветлеет, и пойдём, — проговорил Колька. — Вить, подкинь сушняку, пусть ярче полыщет.
— Как же вы со мной пойдёте?
— А так же, — ответил Колька, поднял свою палку и удалился. Тотчас послышался стук и его сердитый голос: «Кши, гады, кши!»
— Витя, а ночь давно?
— Не очень. Часа три.
— А как вы меня тащили?
— Мы тебя никак не тащили. Мы только уняли кровь да ближе к канаве поднесли, вот. Тебе бы нашатырь нюхнуть… Мы маме давали нашатырь. С ней часто случалось…
Я повернул голову к Витьке. Уловив моё насторожённое внимание, он после некоторого молчания произнёс:
— Мама всё говорила, что долго-долго будет жить, нас вырастит… А то вдруг — в слёзы: «Как вы, говорит, без меня будете?..» Живая — про смерть… А как она трудно умирала!.. Ночью…
Витька замолчал. Потрескивал костёр. При вспышках лес озарялся глубже, при угасании темнота придвигалась вновь.
Витька уже несколько раз говорил о том, как трудно и страшно умирала их мать. И постепенно передо мной нарисовалась картина смерти Кожихи, дополненная воображением… Ночью ребят разбудил крик. Плача и трясясь от страха, они зажгли лампу. Мать металась в постели, выгибаясь дугой, будто хотела переломиться, и иссохшими руками сжимая себе горло. Лицо её почернело и сморщилось, глаза оставались закрытыми. Пока обезумевшие ребятишки бегали к соседям, она умерла, не оторвав рук от горла… А хотела долго жить, хотела вырастить ребят. Ну, вырасти они и так вырастут — колхоз поможет, но только ведь без матери — это плохо… И Кожиха представлялась мне уже не такой плохой, наоборот, она вон заботилась о ребятишках и вообще… Они всегда ходили чистые и опрятные. Они и сейчас, без матери, одеваются так же аккуратно… Надо и мне остерегаться — поменьше пачкаться, пусть мама порадуется… Я размышлял в каком-то полузабытьи. Но, вспомнив о маме, очнулся и шёпотом — громко говорить не мог: в голове отдавалось — произнёс:
— Хоть бы мама осталась ночевать на таборе, а то подумает, что мы затонули, и всполошится… К утру-то я, может, отлежусь.
— Толик, наверное, не спит — беспокоится…
Подбежал испуганный Колька:
— Ребя, гляньте, гляньте…
На нас надвигались какие-то огоньки. У Витьки подкосились ноги, и он сел, прикрыв рот ладонью. Я соображал не очень ясно, но понял, что сейчас случится что-то ужасное… Огни — ближе, ближе. Они то прятались за стволы, то снова выплывали. Они блуждали. И быстро явилась мысль: волки. Но почему они одноглазые?
И тут послышались глухие человеческие голоса и вдруг — голос:
— Вот они, обормоты!
Анатолий. Я закрыл от слабости глаза, но тут же опять раскрыл.
Люди спешили, чуть не падали, путаясь в корневищах. В руках у них дёргались фонари. Да сколько их, полдеревни, что ли? Нет, это тени мелькают. Их — трое.
— Ах, Робинзоны! Ах, шугайские Крузы, — восклицал Анатолий, приближаясь к нам.
— Мальчики! Что же вы? Зачем же вы остались в тайге? Миша!
Этот голос я узнал. Я почти испугался от радости. Я крикнул:
— Мама!
В голове кольнуло — сознание пропало…
Должно быть, я видел сон: мне казалось, что я плыл, что мне в ухо жужжали пчёлы, которым пасечник Степаныч говорил: «Нельзя, свой», что вокруг булькала чёрная вода и в неё, как в барабан, дробно ударяли кедровые шишки. Потом из мрака выпрыгнула оскаленная морда Игреньки и проговорила: «Молодец, братуха!» И всё качало и качало.
Я очнулся. Меня несли. Чавкало болото. Витька рассказывал:
— Мы спрятались и крикнули: «Кидай». Коля кинул, и вот…
— Я думал, он в сторону бросит, — неожиданно для всех произнёс я.
— Миша, тебе нельзя разговаривать, — послышался мамин шёпот. Она несла носилки сзади.
С трудом я различал её лицо.
— Мама, мне не больно.
— Молчи…
Сбоку подошли Витька и Толик. Это он был третьим.
— Последнюю поляну проходим, — проговорил Витька. — А там — земля.
Сгоряча я не чувствовал боли, храбрился, но на второй же день меня скрутило. Кошмарный, полный фантастичности, бред сменялся тупым бездумным забытьём, забытьё — сном. Иногда в минуты покоя хотелось разбросать тёплые подушки и душные одеяла и нагишом выскочить на улицу. Но при малейшей попытке приподняться острая боль в голове опрокидывала меня, и опять — бред.
Однажды, вынырнув из забытья, я уловил разговор матери с врачом.
— Не беспокойся, Лена, рана не опасная. Пробита только кожа, а кость цела.
— Но он почти не приходит в сознание, всё время бормочет, то Хромушку вспоминает, то Игреньку. Я склонюсь к нему, а он не узнаёт, — со слезами в голосе говорила мама.
Что ж поделать, всё-таки сотрясение… Не расстраивайся, скоро уладится. Я знаю ряд случаев более тяжёлого состояния, и то всё кончалось благополучно… Только следи, пожалуйста, чтобы он не вскакивал, не вызывал в голове болевых ощущений, это затянет выздоровление… никаких порошков не выписываю, они ни к чему… Загляну послезавтра.
Сотрясение мозга! Что это за болезнь? Когда мама, проводив врача, вернулась, я позвал:
— Мама.
— Не разговаривай, Миша, тебе надо молчать. — Она склонила ко мне лицо с росинками в глазах.
— А что такое «сотрясение мозга»?
— Это значит: поколет-поколет и перестанет, только нужно спокойно лежать.
Первый день я ничего не ел, а потом явился аппетит. Твёрдое жевать не мог. Мама готовила мне всё лёгкое и жидкое. Пил я через стеклянную трубочку, которую подарила врач и которая, по её словам, была волшебной. Потягивая кипячёное молоко, я вспоминал Кожиху, потому что стал походить на неё: у меня — стеклянная трубочка, у неё — железная воронка, я не могу жевать, она не могла глотать — всё просто, оказывается, и нет тут ничего странного и страшного.
Как-то мама принесла немножко сахару.
— Ого! — обрадовался я. — Где это ты взяла?
— Марфа дала. «Вот, говорит, отыскала на полке, возьми, подкрепи сынка».
— Граммофониха?!
— Граммофониха. Чего дивишься?
— Так ведь… — Я пожал плечами, не зная, что сказать.
Мама поняла и вздохнула:
— Эх вы, люди!.. Только с одного бока на человека-то смотрите, а с другого глянуть — ума не хватает. С одного бока все люди покажутся одноглазыми, а обойдёшь — и второй увидишь… Вам бы только тыквы под окна совать. А она, может, последнее от себя отдала… Ну ладно, тебе много ещё нельзя разговаривать.
Я задумался. Взбалмошная Граммофониха вдруг улыбнулась мне и сказала протяжно-певуче: «Ах ты, ока-ян-ная душа!» И в этих словах я не ощутил злости и гнева, но почувствовал великую доброту.
Сахар лежал в тряпочке рядом, на табуретке, на которую подавалась мне еда. От сладостей мы отвыкли. Колхозный мёд почти целиком сдавался государству, а если что и получали на руки, то приберегали к морозам, на случай простуды. А зимой мы любили грызть сладкую подмороженную картошку, с трудом отыскивая её среди десятка таких же подмороженных, но не сладких.
Вспоминая неожиданно щедрое угощение пасечника Степаныча, я нет-нет да и тянулся к сахару, добывая его из тряпочки по-кошачьи — языком.
— Вот и поправляемся, Миша! — сказала с радостью мама.
Оказывается, за эти дни она всего несколько раз побывала на полях и завтра собиралась выйти на работу по-настоящему.
— Я попрошу бабушку Акулову, она к тебе будет наведываться.
— Мама, а почему ребятишки не приходят? — спросил я, повернувшись на бок. Ворочался я уже свободно, боль сгладилась.
— Да они надоели: можно к Мишке да можно к Мишке. Я их прогоняю.
— Почему?.. Ты уж их пусти. Я ведь не заразный, а они подумают, что заразный… Я соскучился. Как придут — пусти.
На следующий день в обед они тесной кучкой ввалились в комнату. Стукнулось затылком о пол ружьё, которое, наверное, приставили к стенке.