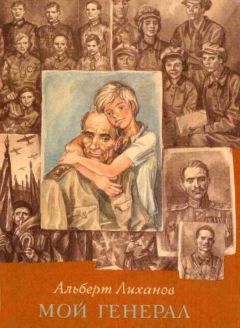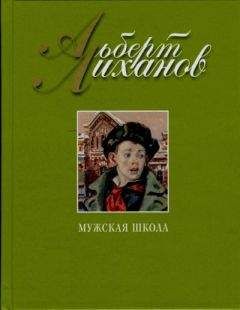В первом же бою отличился. Немец кинул гранату, в окоп попал. Крутится граната на дне окопа — на нашу не похожая, с длинной ручкой, и не взрывается. Потом уж он понял, что у фашистских гранат время до взрыва дольше, не то что у наших — кинул и бабах! Эта ещё на земле крутится. А тогда ни о чём не подумал. Наклонился стремительно, схватил гранату и обратно немцам швырнул. В воздухе взорвалась. А его страх прошиб. Да поздно, слава богу. Если бы раньше испугался — всё, могила. А тут жив остался, благодарность от командования получил, гранат перестал бояться.
Из-за этих гранат всё и вышло. Прославился он, как храбрец необыкновенный. Голова закружилась от похвал. Схватил он ещё раз гранату, а она прямо в руке взорвалась.
И опять ему повезло.
Да лучше бы не повезло! Это он так сказал. Лучше бы, сказал, убило на месте. А его только контузило, да один осколок руку рассек.
Упал он, оглушённый, а в себя пришёл — над ним немец стоит.
Попал он в плен. В фашистский плен. В самое страшное место — в лагерь смерти. В лагере узнавали, кто кем до войны был. Искали разных специалистов. Инженеров. Электриков. Зачем-то нужны были. А он был музыкантом. До войны в оркестре играл. На трубе. Солист оркестра. Это значит, вместе со всеми может играть, а может и отдельно — если надо, конечно.
Когда фрицы узнали, что он солист, очень обрадовались. Он не понял почему. Зачем им музыканты? Разве можно было догадаться? Разве можно было подумать даже, что зверство и таким бывает?
Его взяли в оркестр. Собрали музыкантов всех национальностей. Раздали ноты. Велели музыку разучить. Всякие вальсы. Весёлые марши. Фокстроты.
Музыкантов специально из разных стран подобрали. Языки у всех разные. Говорить нельзя. А ноты — общие. Нот не жалко, пожалуйста. Разучили музыканты музыку, и началась у них работа.
— Боже мой! — сказал он. — Боже мой! Зачем я тогда схватил гранату! Лучше! Это было бы лучше!
Работа была страшная. Музыкантов берегли. Им даже давали побольше еды. Потому что у музыкантов должен быть неплохой вид. Не цветущий, но и не ужасный. Не как у остальных.
Остальные работали день и ночь в каменоломнях. А потом их отводили в баню. И отправляли в другой лагерь.
Это так говорилось. Из трубы в бане валил чёрный, смрадный дым. Это была печь, где сжигали людей. И ни в какой лагерь они после этой «бани» уже не уезжали.
Но так говорили фашисты. Улыбались ласково, провожая в «баню» новую партию. Махали пленным белыми перчатками. И играл оркестр. Всякие весёлые мелодии. Вальсы, марши, фокстроты.
— Счастливого пути! — смеялся фашистский комендант, а потом подходил к трубачу и бил его, коротко размахнувшись, кожаным хлыстом по лицу. — Эй, — кричал он, — солист! Веселее играть! Веселее!
И трубач играл соло на трубе. Весело играл, беззаботно. Хоть пляши! Ну, настоящий праздник! И те, кто собирался в «баню», смотрели на него с ненавистью, хотя по лицу трубача сочилась кровь от удара хлыстом.
Сначала он плакал по ночам. Потом не плакал — слёзы все кончились. Он страдал от того, что не мог даже плакать. Ему хотелось умереть. Но музыкантов берегли.
Однажды он бросил трубу. Стал топтать её ногами, проклиная, что выучился музыке. Оркестр заглох. Его выхватили из строя, и он обрадовался этому. Обрадовался, что конец, всё. Что и его отправят в «баню». Может быть, это было легче, чем играть.
Но его избили шомполами. И дали новую трубу. Он опять солировал. Только теперь по-новому. Он глядел сухими глазами на людей в полосатых пижамах, которые уходили в печь, и играл так, что в весёлой музыке слышались зловещие ноты.
Фашистам нравилось, как он играет. Они были довольны. Они не могли понять, что эти ноты посвящаются им. Комендант бил трубача хлыстом с особой силой. В знак благодарности и уважения. А те, что уходили в печь, смотрели на него без ненависти. Они смотрели ожесточённо. Эти жёсткие ноты нравились им.
И снова ему повезло. Музыкантов не успели сжечь. Их просто расстреляли второпях. К лагерю мчались наши танки, и фашисты дали очередь по весёлому оркестру.
Пуля попала трубачу точно в грудь. Он упал. А когда очнулся, над ним стояли закопчённые танкисты. И на их лицах он увидел ужас. И тогда он приподнялся. Взял в руку трубу и поднёс её к губам, чтобы сыграть что-нибудь весёлое.
Он дунул в трубу, блестящая медь обагрилась кровью: пуля пробила ему лёгкое…
«Но лучше бы пробила сердце!» — Так сказал он и заплакал. А когда успокоился, улыбнулся: «Видите, теперь слёзы есть опять!»
Он вернулся домой и никого не нашёл. Соседи, которые шли по дороге с женой и сыном, говорили, что потеряли их, когда налетели фашистские самолёты.
Он искал их повсюду. Писал письма. Ездил в Москву. Следов не было. Он понял, что война погубила и их.
Словно умер трубач. Живой, да не живой. Ходит, ест, пьёт, но будто не он ходит, ест, пьёт. А другой человек совсем. Музыку до войны больше всего любил. После войны слышать не может. В новой квартире радиопроводку снял. Только газеты читает. Оркестр из жизни вычеркнул. Устроился на завод.
Потом женился. Жену зовут Катя. Родился сын. Серёжа. Теперь уже в институт поступил. И музыканту стало казаться, что войны и не было никакой. Что всё во сне приснилось. Что не прощался он с Катей и сыном, не уезжал в грузовике на войну — просто время куда-то исчезло. Время его мук.
Стал он оживать. Радио провёл в квартире. Правда, когда музыка, старается выключать. И жена с сыном выключают, понимают его.
И вдруг он услышал: в радиопередаче рассказывали про Серёжу.
Он даже похолодел…
Всё в нём перевернулось.
Я смотрел на гостя во все глаза.
Откуда он всё это придумал? В какой книжке прочитал?
Нет, не подумайте, будто я ему не поверил. Такое было, я слыхал. Но разве могло быть это с ним? Вон он какой. Ничего особенного. В вышитой рубашке. Руки мягкие, влажные, неприятно даже. Совсем обыкновенный, словом, а ведь он про героя рассказывал! Про трубача! Такие же в кино только. В книгах. На пионерских сборах о них говорят, а на самом деле их, может, и нет. А если и есть, то, наверное, где-то. В Москве, например. В Верховном Совете. А этот дяденька живёт в маленьком городке на Украине. Не слыхал никогда даже такого названия…
Я гляжу на человека в вышитой рубашке и никак не могу понять, что он — тот трубач. Нет, не могу… Да ещё он, может быть, мой Дед!
Это мне помогает. Нет, нет, говорю я себе, дедушка мой здесь, а это рассказы, вымысел, я этого человека совсем не знаю, не имею к нему отношения, вот он встанет сейчас, выйдет на улицу, и всё… Я буду думать, что просто услышал страшный рассказ. Пусть это даже правда, что он говорил. И пусть он будет героем, мало ли…
Но гость не уходит. Не исчезает, как в сказке. А сидит. Они с дедом курят, молчат. Я слышу его дыхание, его осторожное покашливание. Никуда он не денется, не исчезнет, не уйдёт. Он существует действительно, этот человек, и его нельзя убрать, передвинуть куда-нибудь в угол, чтобы не мешал остальным.
— Как будем действовать? — спрашивает дедушка.
— У него на руке была родинка. На локтевом сгибе, — говорит человек.
Дедушка сосредоточенно молчит. Я лихорадочно вспоминаю — есть ли у папы родинка? По-моему, нет. А может, есть, только не замечал.
Дед опускает голову, качает головой:
— Не помню.
— А последняя надежда — фотография, — говорит человек. — Я слыхал, существует экспертиза. Можно установить, тот человек или не тот.
Он лезет в карман, достаёт бумажник и вынимает из неё пожелтевшую фотографию. Там какой-то весёлый мужчина, молодая женщина. Белобрысый мальчишка обнимает их. Он повернулся немного боком и смотрит куда-то вверх. Может, на птицу. А может, на облака.
Я смотрю на карточку придирчиво. Но сердце колотится набатом. И в висках стучит молоточками. И душно.
Я подношу фотографию к глазам. Неужели это папа?
Папа! Это сразу ясно.
Но может, не он? Конечно, не он!
Мало ли похожих людей! И потом, разве таким был папа в детстве? Я видел его фотографии. Он был там постарше. С бабушкой. Потом один — с портфелем. Вместе с бабушкой и дедом. Потом с дедом вдвоём — оба в военной форме, дед — в настоящей, а папа — так, шутя, ему дед привёз с фронта, попросил военных портных сшить гимнастёрку для мальчишки.
Я лихорадочно лезу в стол. Достаю альбом с карточками. Гость надевает очки, не спеша разглядывает каждый снимок.
Я тревожно гляжу на него. Меня злит, что он такой медлительный. Что не может посмотреть быстро и сказать: «Извините, я ошибся!» Он молчит, рассматривает наши фотографии, сверяет их со своей, и я уже не злюсь, а трепещу, словно жду приговора.
Ну, а как же всё-таки этот? Как с ним быть? Человек прилетел с Украины, ищет сына, по имени Сергей, и может быть, папа — его сын…