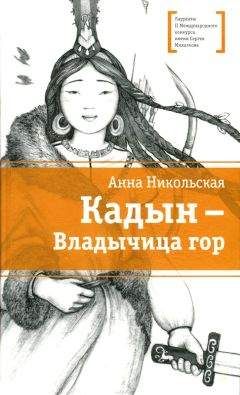Еще мой отец начал устраивать склады для хлеба. За два года до войны он стал делать так, когда засуха уже кусала и наши поля, и наши стада. Я же объявила то обязательным: устроили хранилища для хлеба, собрали скот в общее стадо, охраняли его люди нашего рода, и никто не мог взять ни от хлеба, ни от стада, пока не разрешу я. Как недовольны были и люди, и главы, все считали, что я их граблю! Но той же зимой, когда съели свои припасы, обратились к общим — и так выжили. Скот, не отогнанный на Оуйхог, на лучших пастбищах царского рода был и близкий, и в жире, а хлеб делили поровну. Но, конечно, сначала люди не понимали, шумели, являлись ко мне, говорили о грабежах и нечестности воинов, кто собирал дань. Только я уже тогда, в первый год, научилась не слушать смутьянов и трусов.
Теперь же слышала я, так поют люди о тех годах после большой битвы: что был голод зимой, но будто бы вышла я к скале, ударила плеткой, и разверзлась скала, и выехали оттуда обозы с хлебом, круторогими запряженные быками, вышли пышные стада и отары, и люди разделили это между собой, и все были сыты… Смешно мне — и горько над этим смеяться. Не помнят ничего люди, забыли. Только пусть бы всегда дурное забывалось быстро.
С первого года стала собирать я вокруг себя верных воинов, без которых немыслимо было мое царство. Отец мог обходиться без таких людей, я — нет. Отец не имел врагов среди глав родов, мне же один конник Талай оставался верен, все другие иначе, чем я, дышали. И нужны были потому мне верные люди.
Сначала Эвмей и Каспай — его первый друг после посвящения, не по возрасту рослый и крепкий мальчик, а потому смешной своей силой, которой он применения сразу не знал, как медвежонок, — моими помощниками стали. Потом их прибывало и прибывало. Наконец, они стали большой силой, и боялись их, не любили главы родов, потому что были мои воины зорки, когда приезжали смотреть, как те или иные мои приказы в станах исполняют, были тверды, когда собирали доли хлеба и скота для общего котла, были неумолимы, когда разбирали тяжбы. Я не оставляла в одних и тех же станах одних и тех же воинов надолго, постоянно сменялись они, были моими вестниками, легкими и быстрыми, и потому неподкупны были и для глав, и для простого люда. Мне же все они были верны, и я защиту свою чуяла в них, и когда объезжали мы станы и дальние стоянки, и когда вместе, одним клином, летели в бой.
Первые два года власти для меня — суета и усталость, скорбь по погибшим, тревоги новых нашествий. Мне нужен был сильный люд, только так я могла защитить его. В первую же осень я сказала главам родов:
— Наши предки войной жили, от нас же это ушло, как талая вода. Наши тела стали мягкими, наши женщины сгорбились над очагами и иглами. Объявите им, что теперь всякая женщина нашего люда, будь хоть пятеро детей у нее, но если нет чада во чреве или на груди, — такая женщина считается воином и должна быть готова идти в бой. Мужчина останется в стане во время войны, только если он при смерти или с переломом. От каждого рода на случай походов даваться будут двадцать семей, в случае нападения на наши земли — все люди. Лишь по одной семье, дети до посвящения, немощные и беременные остаться смогут со скотом. Кто же останется сверх этих, будет считаться предателем. Ему одна смерть — быть разорванным лошадьми.
Я запретила зимние посиделки, и первые два года этот запрет был строг, провинившихся могли высечь прилюдно или лишить коня на целую луну. В каждом стане были назначены воины, кто учил других бою, в том числе детей накануне посвящения, чтобы легче давались им тяжелые боевые клевцы. Роптал люд сначала, столь дурное слышала я о себе, что уши чернели. Со злостью, помню, прозвали меня вдовьим царем. Это за то, что вдов освободила я от обязательства идти жить в дом к мужним братьям, вновь свободными воинами сделала их.
Старшая дева сама обучала дев военным приемам, некогда только Луноликой матери девам открытым, и была очень этим новым воинством горда.
— Ты понимаешь, что переступить волю Луноликой и бело-синего нам не дано, — помню, говорила я ей. — Не бывать этим девам теми, кем вы были когда-то.
— Не бывать, но они к тому и не стремятся. Не станут они хранить ту силу люда, что мы хранили, но разве лишней будет одна сильная линия в твоем войске? — отвечала мне старшая дева. Я видела: то была для нее радостная игра на склоне ее лет, и не противилась этому.
— Сила нашего люда с нами уйдет в бело-синее, — говорила я с грустью.
— Нужна ли она этим людям, что живут нынче в наших горах? — спрашивала старшая дева, и я не знала, что ей ответить.
Люд менялся. Это видела я, видели девы, Очи видела — но только не сами люди. Становясь другими, думая уже о другом, они не оборачивались назад. Я понимала, что власть мне дана над людом в момент перемен, но не знала, что за бабочка вылетит из темного кокона.
Вскоре было у меня новое, крепкое воинство. Из года в год все легче отбивали мы мелкие набеги. От пленных я узнавала, что нет в степи власти, бегут оттуда люди. Меняются там цари и выгоняют не только своего брата-предшественника, но и весь его род. Куда бежать им, все земли поделены, везде война — бегут к нам. И я говорила так своим людям:
— Вы защищаете себя и землю, на которой живете. Степские же ничего не имеют, без цели бегут они, за случайной добычей и смутной судьбою. Вас хранят ээ Торзы, хозяева этих гор. За их же спинами только ветер.
И яростней дрались мои люди, а через несколько лет прекратились набеги. Потом сами мы двинулись на север, легко заняли прекрасные земли, отличные пастбища и охотничьи места, изгнав живших там людей.
Но все это было позже, и не мне о том говорить. Я чую уже: воздух пахнет рассветом. Пора завершать мне свой рассказ, что не успела поведать, уйдет пусть со мною. Время, о котором поведу теперь речь, волной подносит меня к дому невесты, к этому порогу и этой ночи, у которой уже виден конец. История царя — это история люда, и о ней сказания будут память хранить. А моя жизнь, девы-воина, Ал-Аштары царевны, закончилась с возложением царской шапки. Одна последняя битва оставалась мне на все эти восемь лет, о ней одной поведаю, — и кто скажет, победила я в ней или нет?
Все эти годы один бой я держала — бой со своим людом и главами родов за вечное наше кочевье. Зов кочевой крови из года в год слышала я все сильней и уже не могла ничего другого слышать, кроме шума ветра в ушах, кроме тяги в кочевье. Первые два года не трогала я глав, не задавала им вопросов о том, чтобы сняться. Думала я: наберутся сил мои люди, восстановят стада, вот тогда и снимемся мы все разом и, свободные, сильные, двинемся к Золотой реке. Но время шло, а люд только больше врастал в горы. Все чаще называли они своей эту землю, все реже вспоминали о движении.
Видела я, что не селится больше в сердцах у люда дух кочевой. Никого не звал ветер весной в дорогу, никто не видел снов наших предков, не пел их песен, не кружилась ни у кого голова от запаха с дальних холмов. Мое же сердце томилось.
Было шестое лето моего царства, когда содрогнулись горы и помутнели реки.
Земля вздыбилась, как кобылица, и пошла волнами. Я в доме была и видела, как заходили бревна, затрещали балки. Сильный гул прошел по горам. Я выскочила за дверь, все мои слуги тоже. Люди в стане покинули дома и смотрели, как ходит земля, будто озеро под ветром. Тяжелые лари прыгали, словно сайгаки, за домами, кони носились и ржали, дети ревели. Но странная радость вмиг пробудилась в моем сердце, будто случилось то, чего я ждала.
Вот оно, началось, — подумала я тогда.
Земля не унималась весь день, и люди спали вне дома, потому что боялись. Охотники спустились в станы, говорили об обвалах, об ужасе диких зверей, идущих в долины. Горы дрожали. Горы гнали нас со своих спин. Я разослала вестников к главам родов, и скоро все они в моем собрались доме.
— Вот вы видите знак старших братьев, — глядя в хмурые лица мужчин, я говорила. — Даже глухой теперь не может его не услышать. Ээ Торзы, хозяева, велят нам сниматься и уходить. Собирайте своих людей. Мы уйдем до первого снега.
Но загудели, зароптали мужчины. Нахмурили лбы, потупили очи. На меня не смотрели.
— Наши кони всегда готовы в путь, — ответил спокойно один Талай, а другие все зашумели.
— Мы ничем станем без этих гор! — говорил кузнец. — Отсюда мы берем и волчьи зубы, и сбрую, и красный цветок, и само золото.
— Как оставим мы караваны? — говорил племянник Зонталы, вместо него ездивший тогда на сборы. Сам Зонтала уже давно у меня не бывал. — Мы потеряем все, что имеем сейчас.
— Где найдем лучшие горы, богатые дичью? — говорили охотники. — Ты дала нам много земель, зачем же сниматься сейчас?
И так все они одно продолжали говорить, что и каждый год от них я слыхала, что и отец успел услышать. Мое сердце наполнилось гневом, заболела голова, шум в ушах поднялся.
— Собаки! Верблюды! Скоты! До того говорили, что не имеете знака, но вот, получив, дрожите за подачку, что бросили к вашим ногам! Это ли люд Золотой реки? Или то мычание безрогих телят? Не слышать духов преступно! Вас же погубят они! Собирайтесь, собирайте народ, а если не хочет кто, на свою долю вас здесь оставим. Завтра скажите мне о решенье люда.