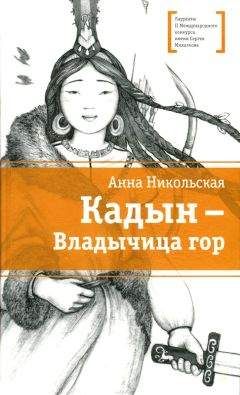— Где найдем лучшие горы, богатые дичью? — говорили охотники. — Ты дала нам много земель, зачем же сниматься сейчас?
И так все они одно продолжали говорить, что и каждый год от них я слыхала, что и отец успел услышать. Мое сердце наполнилось гневом, заболела голова, шум в ушах поднялся.
— Собаки! Верблюды! Скоты! До того говорили, что не имеете знака, но вот, получив, дрожите за подачку, что бросили к вашим ногам! Это ли люд Золотой реки? Или то мычание безрогих телят? Не слышать духов преступно! Вас же погубят они! Собирайтесь, собирайте народ, а если не хочет кто, на свою долю вас здесь оставим. Завтра скажите мне о решенье люда.
И разогнала их всех, но наутро только один Талай снова сказал, что готовы уйти его люди. Другие упрямо, как в сговоре, на меня смотрели, пока не осмелился кто-то один сказать мне последнее слово люда:
— Не пойдем мы с этой земли, нынче наша родня в этих горах лежит.
Я опешила:
— О тех ли говорите вы куклах, которых сами бурым лэмо отдали, чтобы в землю зарыть? Так отступники поступили, пусть и остаются их семьи, раз забыли они о Золотой реке!
— Да есть ли эта река? — крикнул вдруг кто-то. — А если есть, не здесь ли она протекает? Много золота мы с этих рек берем.
— Ты же сама, Кадын, положила в этой земле своих братьев! Теперь покинуть их хочешь? Не уйдет отсюда люд!
— Мои братья с ветром кочуют! — закричала я гневно. — Кто сказал такое?!
— Сама не знаешь, царь. Велехора положили на левом берегу мутной реки, в степном кургане.
Ни с чем отпустила я глав. Оседлала коня и отправилась в дом к вдове Велехора.
Она жила в нашем стане, хотя была из рода торговцев, но не ушла после боя жить обратно к родне. Спросила ее о брате, и все она подтвердила: что положили его в ту же осень после битвы под одну из каменных насыпей в степи, где темные жили.
— Богато его опустили, — говорила женщина, пряча от меня глаза, обведенные черной краской так жирно, что и неприлично для вдовы. — Хорошо и богато, счастливо будет жить в счастливом мире, все есть у него: и кони, и оружие, и еда. Все-все, что нужно, сама собирала.
Она говорила быстро и очень меня боялась. Она боялась меня всегда, хотя часто являлась ко мне в дом, приводя своего единственного сына, подставляя мне его под глаза. Был он младшим в нашем роду, единственным моим племянником, а потому один мог бы после меня право на власть иметь. Но мне не нравился этот мягкотелый мальчик, не нравилась и мать его, с тупым сердцем овцы. Повинуясь моим законам, она пыталась снова стать воином, но не выходило у нее. Замуж тоже не шла, видно, крепко любила сына и желала видеть его царем, а появись другие дети, не получилось бы уже того, к другому роду принадлежать бы они стали.
— Ты не довольна, Кадын, что не сказали тебе? Что не позвали на проводы? — заговорила она снова, теряясь от моего молчания. — Но ты была занята, боялись мы тревожить тебя.
— Кто занимался этим? Лэмо?
— Да, они и мои старшие братья, в своем стане они уже давно отправляют покойников в счастливый мир, это у нас только не знают о нем непосвященные люди…
— Того, что я знаю, мне достаточно, — сказала я, поднимаясь и не принимая ее пищи. — Не думала я, что принесет кто-то эту заразу в наш стан. Под землей только корни и червяки. Хорошенькое счастье! Или, может, ты себе такого же хочешь? Чего же ждешь? Давай, прикажу сегодня зарыть тебя! Много ли счастья от того ты получишь?
Она побледнела, руки ее безвольно опустились вдоль тела. О моих быстрых судах в то время уже всем было известно, и все боялись их. Такие слова не простой угрозой могли стать. Но я не имела столь сильного гнева, чтобы убить дуру. Я поднялась и покинула ее дом.
С бурыми лэмо я познакомилась в первую же осень свой власти. Только ушли тогда караваны. Мы возвращались в стан после торгов и проезжали по одному из станов рода торговцев. Трубный звук и звон медных тарелок послышались где-то в дальнем конце, и вдруг истошные, безумные женские крики и рев младенца поднялись за ними. И трубы, и звоны говорили мне, что бредут там бурые лэмо, но было то мне тогда неинтересно. А что за женщина голосила, не поминально, а с ужасом смертным? Я остановила Эвмея и Каспая, ехавших со мной рядом, развернула коней и поскакала на крики.
Мы подлетели в тот миг, когда женщину повалили на землю и четверо мужчин в бурых отрепьях хотели надеть ей на шею удавку. Она сопротивлялась, как могла, но безуспешно, не то от ужаса, не то от слабости после родов — совсем малого младенца держали на руках люди, и он пищал. Люди же все, наши люди из рода торговцев, стояли поодаль и молча на это глядели.
Мне взгляда одного хватило, чтобы понять: творится здесь зло. Налетели мы на бурых мужчин, плетками остановили, конями от женщины отстранили. Отскочили они к своей повозке, те, кто звенел и трубил, смолкли и стали смотреть на нас — без страха, тупо и молча, как телята, которых от сена свежего отгоняешь, но они подождут, пока ты уйдешь, и вернутся снова.
Впервые я видела тогда лэмо близко. Худые, изможденные были их лица, замазанные красной глиной, без волос, плоские и гладкие, лишь белки глаз светились на них. Странно схожи были они все. И одежда дурная, рванье, и на ногах — одни только подошвы тонкие, кожаными ремешками перевязанные. И даже как будто вонь шла от них или от той глины, которой они были перемазаны. Лица же их не были ни раскосы, ни плосконосы, не такие, как у нас, или желтолицых, или даже Эвмея: широкие, плоские лица, большие уши на бритой голове — гладкие, безволосые, словно из дерева вырезанные статуи, а не люди. У меня от омерзения невольно вздыбилась кожа. И взгляд их тупой, недоверчивый, как у осиротелых детей, не понравился мне.
А та женщина, которую отбили мы, пришла в себя, веревку сняла и кинулась к моей лошади, принялась обнимать колено и рыдать, захлебываясь:
— Аштара! Кадын! Царица, спаси, спаси меня! Убить хотят, убить меня все они хотяааат! И Анука моего, мальчика моего, моего! Отдайте! — взвизгнула она вдруг, как кошка, бросилась к ребенку, вырвала из рук и прижала к себе. Он заверещал еще громче, и она принялась что-то причитать, а потом опять подбежала ко мне. — Ал-Аштара! Защити!
Она заглядывала мне в глаза, размазывая грязь по зареванному, красному лицу, и я с трудом, как через пелену, узнала Ильдазу. Красы ее прежней совсем не осталось, ни больших глаз, ни крупных губ, ни цвета лица, как рассвет. Была передо мной до смерти перепуганная, толстая баба. Я не ожидала увидеть ее и не думала увидеть такой, и от всего этого, от памяти моей, в которой совсем другой Ильдаза жива была, сжалось сердце.
— Замолчи, сорока! Голова от тебя кругом! — вскрикнула я в смятении, и она замолчала, только все жалась к моему коню и плакала в его шкуру. — Толком скажите, что тут происходит.
Я обратилась ко всем людям, по-прежнему молча, как мертвые, на все глядящим, но они не ответили. А лэмо даже не изменились в лице, словно ничего не происходило.
— И что вы замолкли все? Звери! Царя испугались! Вот, нашлась на вас правда! — завопила опять Ильдаза, торжествуя. — Говорите, чего уж скрывать теперь. Мужа моего здесь хоронят, так, чтобы живым в земле он лежал. И меня, меня с ним положить хотели. Потому что вторая ему я жена, а сына родить сумела! Младшего сына!
— Убить тебя хотели? — не поняла я.
— Да, убить, удавить, как собаку! Посмотри, Кадын-царица, вот собаки похуже степских! Те хоть только жизни наших воинов лишают, а эти еще и спокойствия после смерти!
Тут все люди заволновались и принялись кричать:
— Неверно это! Не понимает она! Бестолочь! Мерзавка!
— Для жены счастье — мужа всюду сопровождать!
— Вот и ложилась бы с ним сама, старуха! Тебя он и живой уже на ложе не брал, может, мертвой захочет! — отвечала Ильдаза первой жене со злым смехом.
— Замолчите все! — крикнула я и щелкнула плеткой в воздухе. Мои воины защелкали тоже, пошли на людей конями и быстро их угомонили. — Один пусть говорит кто-то. А ты молчи, Ильдазка, тебя я уже слышала.
— Урушан, скажи ты! — закричал кто-то из толпы, обращаясь к лэмо. — Скажи, царь правда ничего не знает.
Я обернулась к бурым людям. Один из них сделал вперед шаг и заговорил неожиданно высоко для взрослого мужчины. Он один, как я узнала позже, знал наш язык, другие не понимали его вовсе. Свой язык столь странен у лэмо, как птицы или змеи, они шипят и прищелкивают, потому другим словам с трудом обучаются.
— Ты царь? Новый царь? — спросил он меня, все так же тупо глядя прозрачными глазами.
— Я царь. Ты кто?
— Я вестник счастливого мира в этих краях, — ответил он своим писклявым, будто бы таким же гладким и скользким голосом, как сам весь.
— И где же такой мир?
— Он рядом, о царь. Он здесь. Но мы не можем ни видеть его, ни осязать, пока маемся в теле. Лишь после смерти способны мы в этот мир попасть. Тогда вечное наступит блаженство и счастье для человека.