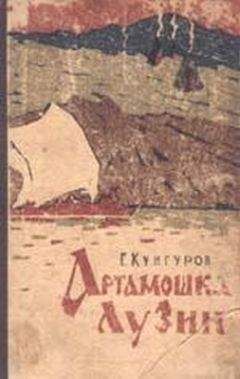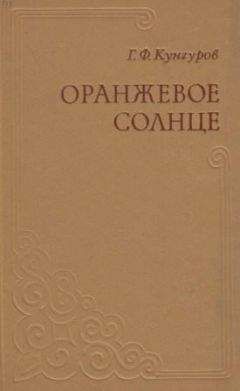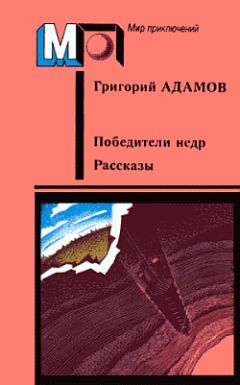— Чудно! Говори, Николка, да не заговаривайся. Что ж, тунгусы и буряты тайгу бросили, пришли и работными людями стали или пашенными крестьянами? — усомнился старый ватажник Петрован Смолин и сумрачно посмотрел на словоохотливого рассказчика.
А рассказчик хитро глаза сощурил, молча оглядел Петрована Смолина и продолжал:
— Посмотрели тунгусы и буряты на житье русских работных людей и диву дивятся: сколь мудрые они умельцы, какие мастера смышленые на все руки! Что нам, сынам Руси, запросто и обычно, то для тунгусов и бурят невиданные диковинки. Смотрят они на избы русские, на бревенчатые строения и от удивления будто громом оглушены. Памятно мне: один старый, столетний тунгус подошел, ощупал мою избенку, походил вокруг, расхохотался: «Совсем лючи глупые люди! Зачем такой чум ставят? Как кочевать, его на оленей не положишь, в далекую тайгу не увезешь. Век жить на одном месте? Совсем худо!»
Ватажники громко смеялись. Николка остановил их:
— Тунгусы — храбрые охотники и звероловы. Огневых пищалей не имеют, со стрелами да рогатинами идут и на медведя и на кабана. Но сыскался у нас в Братске беглый мужик Мишка Кошкин. Пересмешник, плясун, буян, а родила его мать с золотыми руками. До чего ж славно мастерит всякие мудреные затеи — ум мутится! Увидел он тунгусские ловушки на соболей, на лисиц, на волков и давай похваляться: «Да я такие смастерю ловушки на зверей, что небу будет жарко! Вся добыча — в моих руках, все соболи — у меня за пазухой!»
— Смастерил? — не утерпел Петрован Смолин.
— Смастерил на удивление всем охотникам и звероловам. Дивные самоловы! Стали тунгусы перенимать, а Мишка Кошкин — душа нараспашку кричит: «Берите, пользуйтесь! Я еще не то могу, мне все подручно!» Тунгусы и буряты к хлебушку нашему приобыкли да к царскому вину. Огненной водой зовут. Только давай!
Ватажники зашумели, к рассказчику подскочил рыжебородый мужик.
— Николка, о вине помолчи! Нутро и плачет и горит! Клянусь, бочонок с государевым вином поставь — до дна выпью одним духом!
Захохотали ватажники.
Рассказчик закурил трубку, выпустил облако едкого дыма, опять заговорил:
— Тунгусы и буряты в ум взять не могут: откуда калачи да караваи родятся? На пашни смотрят и разгадать не в силах: зимой пашни в снегах, весной — в зелени, летом — в золотых колосьях, а где же караваи да калачи?
Ватажники удивлялись:
— Одно слово — лесные!
— Темнота!
— Пашня-то не всякого кормит, а только радивого да умелого…
— Не кичись, Степка, — остановил особо ретивого ватажника рассказчик. — Тунгусы и буряты — смышленый народец, они и к пашням приобыкнут, дай только срок. А в тайге тунгусы — что рыба в воде: знают каждую звериную тропку, все горные переходы и выходы из дебрей, им ведомы все перевалы и волоки, чуют далеко звериный топот, птичий клекот, змеиный шип… Не худо бы в проводниках иметь нашему атаману старого тунгуса, меньше бы блуждали по буреломам, болотам да страшным кручам, зря бы не маялись.
Ватажники притихли. Немало бед приключалось с ними в неведомых лесных далях, в нехоженых дебрях. Черная тайга — ненасытная пасть: зазевался проглотит!
Петрован Смолин шумно вздохнул:
— Сладки твои речи, Николка, особливо о пашнях, о хлебушке сытном. Все бы бросил, сел на землю, слезами да потом ее напоил — роди, мать сыра земля, корми щедро!
А Николка ему в ответ:
— Ненасытна царская казна, тяжела воеводская рука. Замучили сборщики — плати воеводскому двору, неси хлеб, рыбу, лесные добычи; тунгусы — белку, соболя, лисицу; буряты — мясо, скот, сало, кожи. Жиреют воеводские приспешники, набивают добром кладовые купцы, все богатеют именем московского царя, только пашенные крестьяне да черный народ живет бедно, в нужде, в беде.
Злобно свели брови ватажники, сбили рассказчика острым словом:
— Так ли неприступна Братская крепость, сильна железная рука злодея Христофора Кафтырева?
— Не таких валил черный народ, топтал ногами! Сила-то вот она! — И Петрован Смолин энергично замахал кулаками.
Ватажники вскинули вверх огневые пищали, ножи, пики — каждый готов броситься в драку.
А рассказчик в усы улыбнулся, лукаво глаза скосил, ватажников подзадорил:
— Нонче криком-то курицу не спугнешь. Силы-то надо множить, большой войной идти на злодеев!
— Повалим! — загремели голоса.
Разошлись ватажники поздно — уже молочная полоса пала на восточные горы, звезды погасли, предутренний туман лениво плыл над рекой.
Стоял Братский острог во славу царя московского, на страх разбойным ханам, на беду черному, работному люду.
Третий год не давала земля урожая. Смачивали люди землю обильным своим потом, горбились низко, работая день-деньской, падали в муках, к небу обращали молящие взоры, косились на сытую Обираловку, где жили приказчик, служилые люди да купцы.
Разгневалось небо, жаром полыхало солнце. От жары земля лопалась, пылью разлеталась по ветру. Умирали на корню хлебные злаки, а с ними падал, хватая землю костлявыми пальцами, мужик пашенный. Заглохли девичьи песни, нависло над дымными избами горе, придавило оно мужика к земле, придавило крепко.
Подтянули мужики животы, закусили сухие губы до крови, шапки надвинули на глаза да всем народом и пошли к приказчику за государевой милостынью. Стояли у ворот, долго ждали приказчика. Он не вышел, а послал подьячего. Объявил тот твердое слово: приказчик, мол, в гневе от ваших разбойных слов и повелел не досаждать и рваной ногой на государев двор не ступать. Нет хлеба — все от бога, не жалуйтесь. Широка земля сибирская, нехожены ее леса, неезжены ее реки. Идите, добывайте зверя, птицу, рыбу; не ленитесь на пашнях — работайте, кормитесь кто как может.
Не дал досказать подьячему озорной мужик Никита Седой. Двинул он бровью и шагнул вперед:
— Пошто приказчик Христофор Кафтырев к народу не вышел — в государевых хоромах прячется? От мирского гнева не спрячется, на дне морском сыщем!
А вокруг и понеслось:
— Кликай Христофора Кафтырева, ублюдок!
— Не нужна нам твоя рожа!
— Амбары хлебные от зерна лопаются — наши спинушки гнулись!
— Хлеба!..
Убежал в страхе подьячий.
На высокий помост взошел приказчик Христофор Кафтырев, оглядел собравшихся, грозно крикнул:
— За измену великим государям кнутом и огнем поучать буду! Дурь из вас выбью! Уймитесь, ослушники!
А ему в ответ:
— Мы государям послушны. Мы тебе, душегубу и мучителю не послушны, гоним тебя!
Приказчик и того больше озлобился:
— Бунт! Разбой! Горько вам, ворам подлым, станет! Ой, горько!
Никита Седой шапкой взмахнул, на приказчика с угрозой пошел:
— Слазь! Коль народ голкнет[11] — ты, казнитель наш, смолкнешь!
И приказчик с помоста убежал, спрятался в государевых хоромах острога. Выбежали острожные казаки с пищалями, пиками да саблями, народ разогнали. Отошли мужики, затаили злобу и молча разошлись по избам.
Праздновал приказчик-лиходей Христофор Кафтырев победу. Точили мужики ножи да топоры, направляли тугие луки, острые рогатины, а кто и пищали огневые снаряжал — кто что мог.
Готовили острог к ярмарке, к торгу великому. Быстро вырастали лавки купеческие вокруг острожной площади. Гремела Обираловка, в цветные узоры, в ленты да кумачи разукрашивалась. А Нахаловка насупилась, гневно сдвинули брови мужики.
* * *
Писец, высокий, узкоплечий малый, рыжеволосый, бледный, самый низший служка в остроге, стоял на крутом яру, драл горло, встречая корабли, лодки, дощаники, доверху груженные товарами. Не успеет корабль либо лодка ткнуться о берег носом, уже писец-служка орет:
— Соленая!
— Рыбная!
— С воском!
— Хлебная!
И так целый день.
Подьячий часто прибегает к писцу, заносит в длинный лист счет кораблей и лодок, потом бежит к приказчику. Тот щурит свои желтые глаза-огневки, хмурит лоб, в уме приумножает щедрые доходы. Стоит он в своей светелке, у резного окна, на реку смотрит, чтоб не пропустить кораблики или лодки, успевает посмотреть через плечо подьячего в приходную запись и строго поучает:
— За соленые товары набавь! Стереги деньгу, Степка!
— Можно, — отвечает подьячий.
— За хлебные — и того больше. Сам знаешь, недород.
— Опасно, — кряхтит подьячий и виновато моргает глазами.
— Не твоему разуму судить! Набавь!
— Народ зол, с голоду лют. Не было б…
Приказчик дерзко перебивает:
— Пиши, Степка! Знаю, что говорю. Государеву службу несу, казну царскую приумножаю!
Подьячий чешет гусиным пером за ухом и молча ставит в записи цифры.
Приказчик недовольно спрашивает:
— Степка, что-то подарков ноне купцы несут мне мало? Аль бедны? Аль скупы да жадны? Давно не ходил мой посох по их спинам!