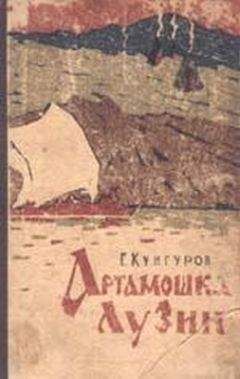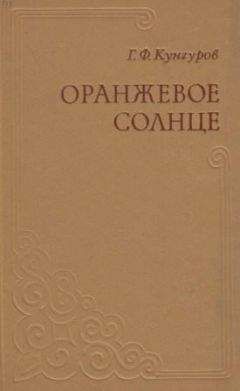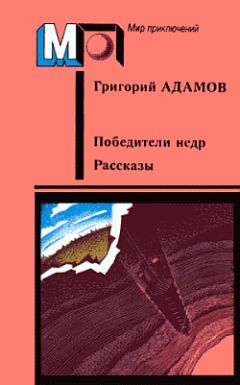Быстро скопилась кучка ротозеев. Они толпились, и хотя еще никакого человека птицы не было, многие ахали, удивлялись, а чему — и сами не знали. Артамошка решил, что время настало. Он встал, вытянул губы трубочкой и пронзительно засвистел, потом пустил трели, защелкал и наконец перешел на переливы нежные да грустные. Щуплый мужичонка в синей поддевке, высокой бараньей шапке не вытерпел:
— Птица, лесная птица!..
— Чудо! — удивлялась баба.
Артамошка вдруг резко оборвал и неожиданно закричал:
— Кар-кар! Ку-ка-ре-ку!..
Толпа лопалась от смеха.
— Ну и парень! — неслось со всех сторон.
Артамошка сорвал с головы шапку и протянул ее к стоявшим впереди:
— Грош! Грош!
Кто-то бросил первый грош. Звякнули еще два-три, а больше, сколько ни надрывался Артамошка, никто ничего не давал. Чалык взял у Артамошки грош, вертел его в руках, пробовал на зуб.
Сбоку крикнул пьяный мужик:
— Петухом! Страсть люблю петухову песню!
— Давай грош!
Мужик долго рылся за пазухой, пыхтел, сопел, наконец бросил грош в шапку Артамошке. Тот кинул вверх шапку, ловко поймал ее и крикнул:
— Райская птица! Доподлинно райская птица!
— Батюшки! — верещали со всех сторон бабы.
— Обман! — говорил мужичок с жиденькой бородкой. — Птицы той никто не видел, голос ее богу лишь слышен.
— Дурень, — перебил его рыжий парень, — не лезь! Пусть поет, он умелец!
Артамошка надрывался:
— За рай — грош давай!
В шапку сыпались монеты. Толпа напирала. Артамошка совал монеты за пазуху, толкнул ногой Чалыка, выпрямился. Кто-то приглушенно крикнул, сдерживая толпу:
— Тише! Духу набирает!
Толпа затихла, ждала. Артамошка оглянулся, потом потряс головой, громко заржал по-лошадиному, толкнул зазевавшегося ротозея в бок, шмыгнул в сторону, а за ним — и Чалык.
Толпа тряслась от смеха. Бабы плевались, голосили:
— Озорник!
— Безбожный дурень!
— Лови, лови его! — раздалось со всех сторон.
И завязалась свалка. Артамошка воспользовался этим, и они с Чалыком юркнули за угол лавки и скрылись.
— Вот те и райская птица! — хохотал рыжий парень.
— Райская-то, она ржет! — усмехнулся высокий мужик.
Бабы бросились на мужика:
— Чтоб у тебя язык вывалился, старый гриб!
Вокруг хохотали.
Артамошка и Чалык на реке смыли глину. Надели шапки и пошли на базар. Чем только не угощал Артамошка своего друга! Тот ел, чмокал губами и о всех кушаньях отзывался одинаково:
— Хорошо, сладко, но, однако, печенка оленя лучше.
Артамошка даже сердиться начал.
Они подошли к обжорным рядам, где на раскаленных углях кипели котлы с мясом. Толстая торговка в засаленной кацавейке мешала деревянной ложкой варево. Густой пар клубился над котлами. Мясной запах пьянил. Чалык впился глазами в жирный кусок, который держала торговка на острие палки. Она выкрикивала:
— Баранина! Свежеубойная баранина!
Артамошка быстро сунул монеты, и они с Чалыком получили по куску горячей баранины.
Когда съели мясо, Артамошка спросил Чалыка:
— Сладко?
— Шибко сладко, однако печенка оленя лучше.
— Тьфу! — сплюнул Артамошка. — Затвердил: печенка да печенка!
И только сейчас он вспомнил наказы отца, засуетился.
Над толпой гремел голос зазывалы:
— На острожный двор берем! На сытое дело берем!
Кто погорластее, тот спрашивал:
— А кормежка какая?
— Кормим! — отвечал зазывала.
— А чарка?
— Не обидим!
— А деньга?
— Платим!
Зазывала шел, а за ним валили гурьбой бродяжки бездомные, беднота босой народ, поодаль шли степенно люди с топорами за поясом — плотники, конопатчики, столяры.
— Никита Седой, шагай! Ты за старшину! — шумели мужики.
Артамошка рванулся в ту сторону, где выкрикивали имя Никиты Седого. Кое-как пробился он к Никите, а тот не разобрал, кто и зачем; видит вьется непутевый парнишка, озорует видимо, да как стукнет ногой Артамошку. Не взвидел тот света и зажал бок. Как ветер прожжужало над ухом:
— Не вертись меж ног! Не мешай мужикам!
Едва вынес Артамошка удар, но вновь забежал вперед, догнал Никиту Седого, стал подходить с опаской да с оглядкой. Видит Никита, что тот же озорник. Зверем метнулся он, сжал кулаки. «Ну, — думает, — я ж его проучу, этого озорника! Ишь, нашел над кем потешаться!» Никита был одноглаз, и мальчишки часто досаждали ему: возьмут зажмурят по одному глазу, идут за Никитой следом — мы тоже одноглазы, что сердиться!
Артамошка набрался смелости и, не доходя до Никиты, сказал:
— Сизые голуби прилетели!
— Что? — переспросил Никита.
— Атаманы молодцы… — ответил Артамошка.
Никита понял. Они с Артамошкой отошли в сторону.
— А это кто? — устремил на Чалыка свой единственный глаз Никита.
— То мой дружок, — успокоил Артамошка Никиту и зашептал.
Глаз Никиты то расширялся, то суживался, на скулах играли круглые желваки, вздрагивала широкая борода. Артамошка передал все. Никита взял Артамошку за руку:
— Я ж думал, ты озорной! Я в сердцах крут!
Артамошка потирал бок и молчал. Никита нагнулся к его уху:
— Передай Филимону: будет Никита в стане к ночи.
Артамошка и Чалык шмыгнули в толпу и скрылись.
Чалык всю дорогу приставал к Артамошке с расспросами. Тот едва успевал отвечать. Чалык спрашивал:
— Где те люди еды так много набрали?
— То они на кораблях привезли.
— А в корабли кто положил?
— То они купили в дальних местах.
Чалык не понял, обиделся:
— Они в сайбах чужих все брали? Худо это.
Артамошка усмехнулся:
— У них сайбы больше той горы, — и показал на огромный скалистый выступ.
Чалык от удивления даже остановился, уставился глазами на скалу:
— Кто им такие сайбы ставил?
— То людишки прохожие, топорных дел умельцы.
Опять Чалык ничего не понял. В голове его все перепуталось. Дружба с Артамошкой, плавание на стружках с ватажниками Филимона окончательно уничтожили в сердце гордого Чалыка страх и презрение к лючам. Не раз, лежа на грязных лохмотьях, не спал он, следил за мерцанием звезд на небе, за белым, как молоко, месяцем и думал: «Олени разные по тайге бродят: один белый, другой пестрый, один добрый, другой злой. Однако, и лючи разные…»
И когда кто-либо из ватажников шутил над ним, дергая его за косичку, он сердился: «Однако, этот лючи от злого стада отбился». И тогда брал он из колчана тонкую точеную стрелу, ставил на ней какой-то значок и откладывал ее в сторону.
Немало было ватажников, которые любили Чалыка. Радовался своевольный и гордый Чалык: «Однако, эти от самого доброго стада». И за каждого из таких лючей завязывал он на своей косичке узелок счастья, чтоб жили те лючи долго.
Артамошка толкнул притихшего Чалыка:
— Что умолк?
Чалык поглядел на друга:
— У нас нет большой сайбы и оленя нет. Как жить будем?
Артамошка рассмеялся, вспомнил слова отца:
— Вольному — воля. Сегодня нет — завтра будет!
Чалык не сводил глаз с Артамошки, а тот, припоминая слова отца, горячился:
— Вольны мы, как птицы… Все лавки побьем, купцов оголодим! Артамошка воинственно выпятил грудь.
— Война? — заискрились глаза у Чалыка.
— Война! — сжал кулаки Артамошка.
Невдалеке показался стан вольницы.
Острожный подьячий Степка бегал по двору, кричал, ругался, торопил. За эти дни его черная борода подернулась сединой, будто инеем ее осыпало. Люди торопливо таскали бревна. Стучали топоры, летели смолистые щепы, горели костры. Быстро вырастал новый амбар. Радовался приказчик, глядя в оконце, шептал: «Стучат… Стучат…» Даже спать не мог. Ляжет на лежанку, чуть вздремнет, вскочит — да к оконцу. Послушает, стучат ли топорики, горят ли костры. Так всю ночь.
Наконец построили. К коньку сам приказчик прибил петуха: то была примета счастья. Дом не дом, амбар не амбар, изба не изба, коль нет на коньке приметы — петуха, искусно вырезанного из дерева или белого железа.
На следующий день цены на ярмарке поднялись: соль в два раза, к хлебу не подойдешь, так он дорог, гнилая рыба и та в цену вошла. Заволновался народ:
— Оголодимся вконец!
— Разорение и погибель!
— Помрем худой смертью!
Поплыли слушки: приказчик указ от государя получил, и в нем пишут: «Скупай, холоп, и соль, и хлеб, и другую еду — большой будет голод. Десять лет не упадет дождя, и все посохнет, все спалит жгучее солнце».
У лавки купца Развозжаева судачили вполголоса бабы:
— Так, так и есть. Звезда по небу летела, а за ней, за той звездой, волочился длинный кровавый хвост!
— Да но-о?
— Да-а!
— Бабоньки!..
— Афоня-юродивый в той звезде тайные знаки разглядел, — прошептала таинственно Марфа Сутулая.